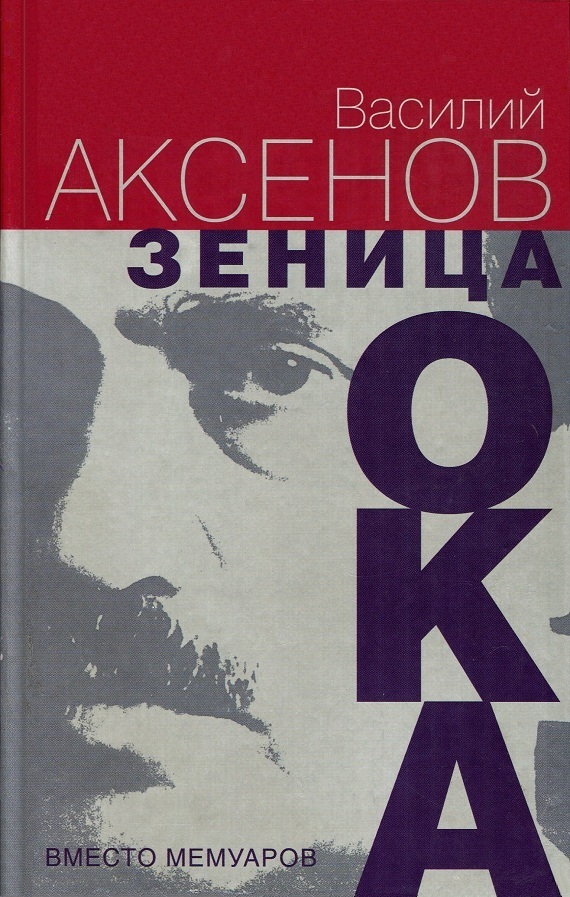Шрифт:
Закладка:
Что такое патриотизм: эмоция или идеология? Если это чувство, то что составляет его основу: любовь или ненависть, гордость или стыд? Если идеология, то какова она – консервативная или революционная; на поддержку кого или чего она ориентирована: власти, нации, класса, государства или общества? В своей книге Владислав Аксенов на обширном материале XIX – начала XX века анализирует идейные дискуссии и эмоциональные регистры разных социальных групп, развязавших «войну патриотизмов» в попытках присвоить себе Отечество. В этой войне агрессивная патриотическая пропаганда конструировала образы внешних и внутренних врагов и подчиняла политику эмоциям, в результате чего такие абстрактные категории, как «национальная честь и достоинство», становились факторами международных отношений и толкали страны к мировой войне. Автор показывает всю противоречивость этого исторического феномена, цикличность патриотических дебатов и кризисы, к которым они приводят. Владислав Аксенов – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, автор множества работ по истории России рубежа XIX–XX веков.