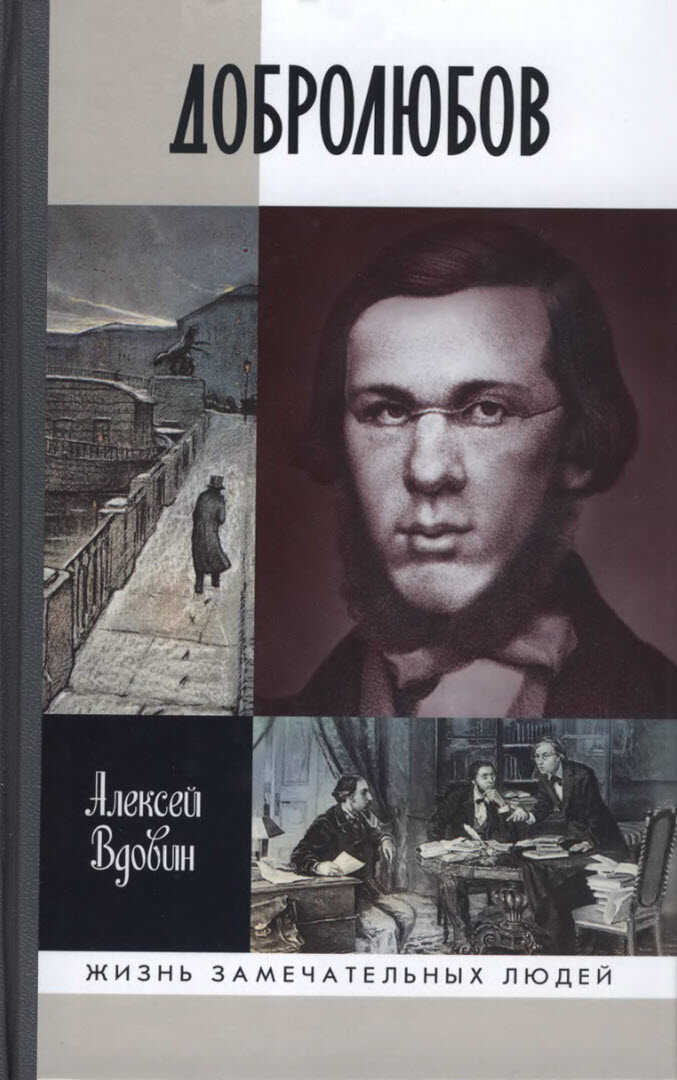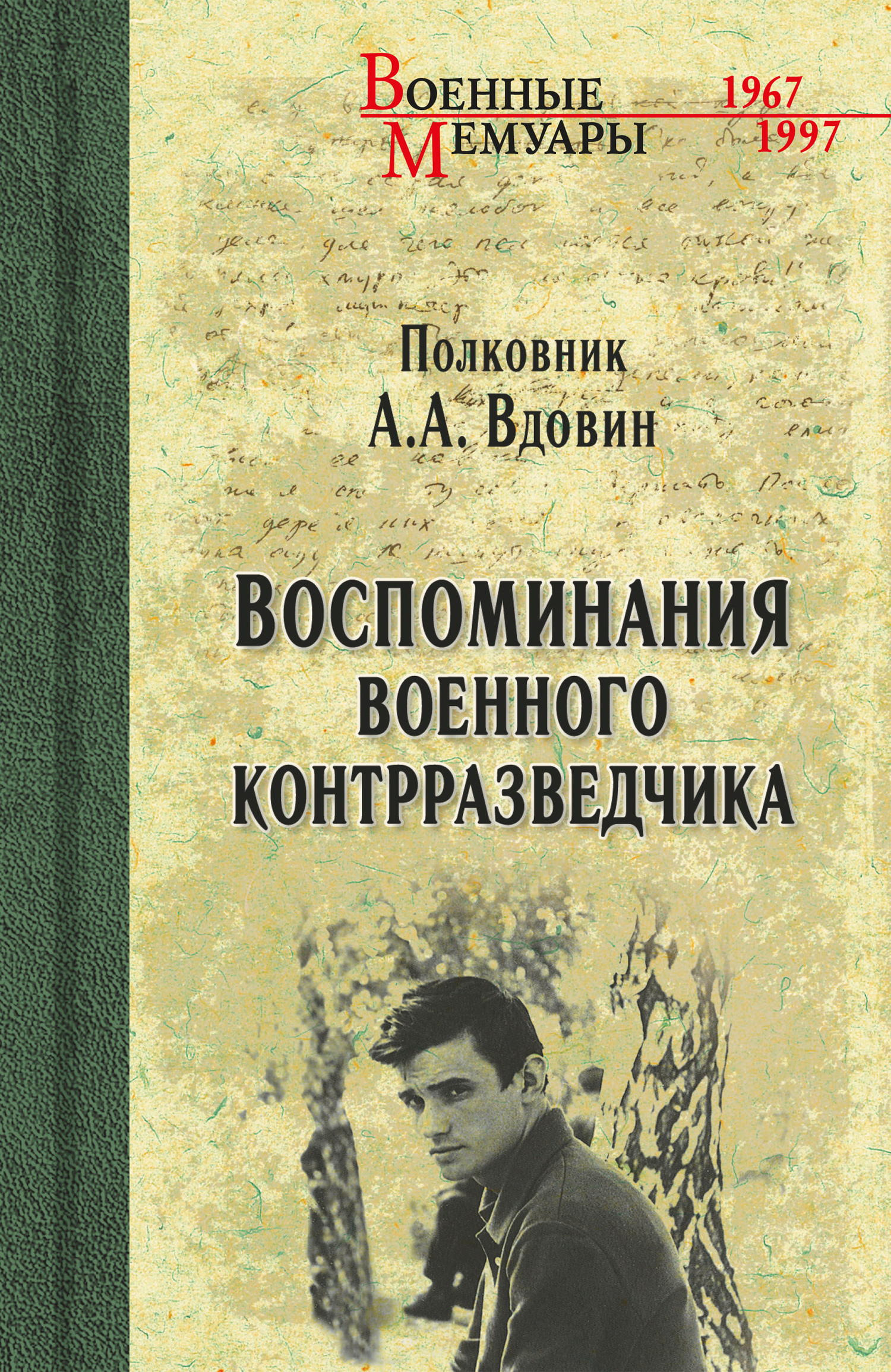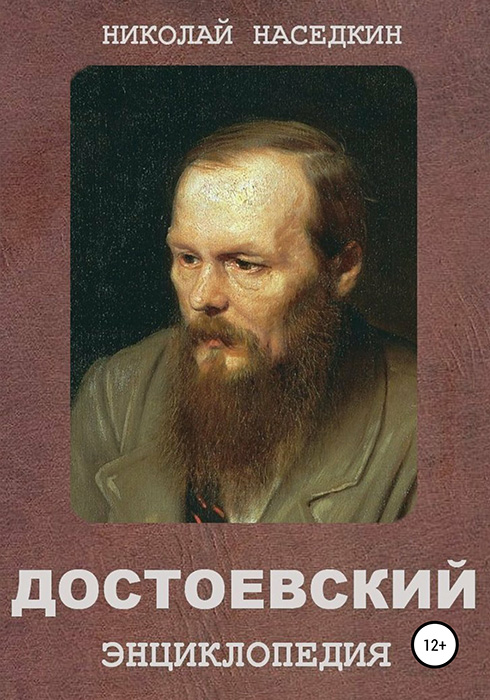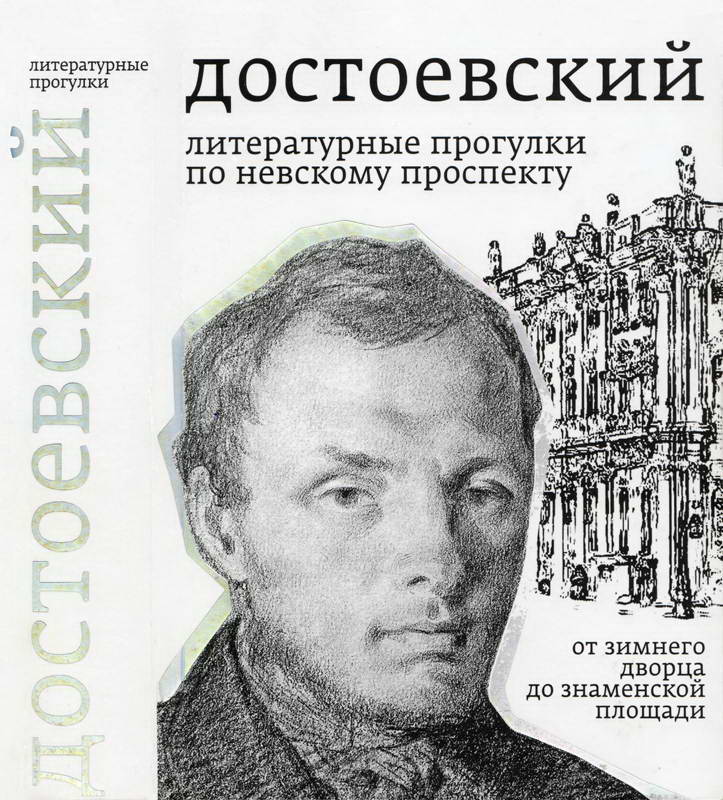Шрифт:
Закладка:
Имя Добролюбова по сей день присутствует в школьной программе, название его статьи «Луч света в темном царстве» стало идиомой, однако сам он основательно забыт. Между тем в русской литературе нет подобного ему персонажа. Едва перешагнув порог двадцатилетия, он стал властителем дум целого поколения, а его ранняя смерть обсуждалась в газетах не меньше отмены крепостного права. Чернышевский объявил его мучеником режима и «главой литературы», а позже списал с него героев своих романов о «новых людях». Реальный же Добролюбов никогда не был известен широкой аудитории. Каков был его политический идеал? Почему в статьях он отказывался рассуждать о литературных достоинствах произведений? Умел ли, по выражению Некрасова, «рассудку страсти подчинять»? Отрешившись от шаблонных трактовок, историк литературы Алексей Вдовин на основе источников, в том числе поражающих откровенностью неопубликованных писем возлюбленных Добролюбова, создал биографию страстной и раздираемой противоречиями личности, так и не сумевшей примирить любовные страсти с демократическими идеалами.