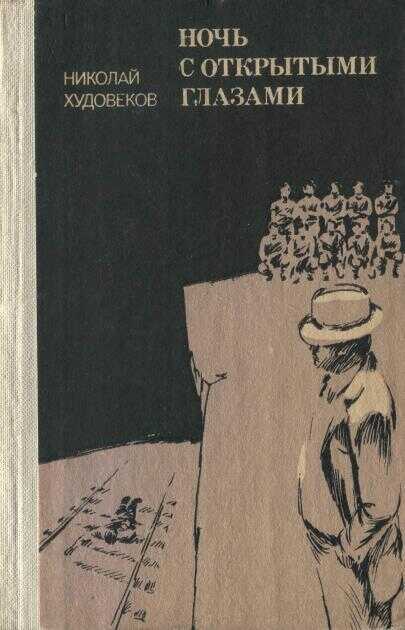Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Научно-приключенческие повести составили книгу автора. Они утверждают гуманистическое начало в человеке, искреннее, земное отношение к добру и злу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Валентинович Худовеков»: