Шрифт:
Закладка:
Не умолкли до сих пор упреки, что многие из образов романа, многое из описаний тайги и всего того, что творилось на золотых приисках, изображены чересчур густыми и яркими красками. Но если даже и признать в отношении отдельных мест романа уместность подобных суждений, то нельзя забывать главнейшего: произведения Шишкова отнюдь не «акварели», они — «масло», близкие по духу эпическим полотнам художника-сибиряка В. И. Сурикова. Да простит нам читатель, если, не желая оставить без подтверждения свою глубокую убежденность в этом, мы напомним ему некоторые места из «Угрюм-реки», из которых явственней станет изумительное искусство писателя и в портрете, и в картинах природы, и в бытовых сценах, и в лепке характеров.
…Ибрагим-Оглы — ссыльнопоселенец, отбывший каторгу за убийство, совершенное на Кавказе по изуверскому обычаю кровной мести. Но он благороден и добр душою, и, несмотря на свою удаль и мужество, тяжкий житейский опыт, во многом по-детски прост и наивен.
С первых же страниц романа он входит в сознание читателя как забавный, добродушный, чуть ли не комический персонаж.
Одна вывеска над его «хазой» чего стоит: «Стой, црулна, стрижом, брэим, первый зорт».
Но, оказывается, кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду как человек, у которого в любое время найдется водка. Вечером «пропившиеся двадцатники, — так звали здесь чиновников, — мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане, да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся…»
Стал похаживать туда среди прочих гимназистов и семнадцатилетний сын богача Петра Даниловича Громова — Прохор.
Что привлекало этих подростков, кроме возможности изведать недозволенное? Сама личность черкеса: «Ведь это же сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже — убьет. Вот черт!
Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь о ладонь: алля-аллягей! — да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуйтесь Ибрагимом…»
Но это описание черкеса было бы неполным, если бы Шишков не прибавил, что у Ибрагима уже большая лысина, а еще он сопровождал все сказанное кратким, но удивительно характерным гортанным восклицанием: «Цх!» Мелочи как будто, а вот отбросьте их, и как потускнеет тогда образ Ибрагима-Оглы!
Ужас неминуемой «белой смерти» оледенит вас, когда черкес и заболевший Прохор Громов, любимый больше, чем родной сын, видят неотвратимость мучительной, вплотную подступившей к ним гибели. Прохор временами в забытьи. «Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз сковал за ночь реку и шитик — единственная надежда путников — вмерз в толщу льда». Ему все же легче: Ибрагим скрывает от него, что сухари уже на исходе, в занесенной сугробами палатке верный черкес отдает ему последние крохи, сам же страшно мучается от голода. В течение нескольких дней он не говорит Прохору, что не осталось никаких надежд на спасение. Но в тот самый миг, когда черкес решает уже, что ради избавления от голода и замерзания лучше одним ударом кинжала оборвать жизнь спящего Прохора, а затем и свою, тут вдруг ему удалось прямо-таки чудом кинжалом убить сохатого: «Задрав большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин… Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать подползавшего врага… Черкес наметил место пониже левой лопатки и, ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце оплошавшего зверя…»
Эта неожиданная добыча спасла их.
Но если бы верный и простодушный черкес, так ревностно оберегавший «Прошку», как он называет Прохора Громова, мог заглянуть в самое ближайшее будущее, то, по-видимому, предпочел бы смерть! Вскоре Прохор убьет Анфису и на суде, выгораживая себя, назовет убийцей… Ибрагима-Оглы.
«Геть, шайтан! Кто? Я?! Я убил Анфис?! Собака, врешь!!! — вскочив и хватаясь за лысую, вспотевшую голову свою, пронзительно закричал черкес». И отныне и до конца жизни Прохора Громова самоотверженный спаситель его — это уже совсем другой человек: черкес, в первых главах романа идиллически-добродушный, временами — комичный персонаж, несмотря на всю свою преданность юноше, которого он полюбил, становится трагически грозным и страшным мстителем.
И на вершине своего могущества, в зените власти, которую в капиталистическом мире дает обладание миллионами, Прохор Громов трепещет перед ним.
Такое же точно диалектическое развитие образа, по только на примере лица второстепенного, провинциального приказчика Ильи Сохатых, нам хотелось бы проследить. Пошлый волокита и сердцеед, жуликоватый и самовлюбленный глупец, стремящийся говорить «интеллигентно», он то и дело употребляет напыщенные словечки, а то и сочиняет любовные стишки:
Ангел ты изящный,
Недоступны мне ваши красы,
Форменно я стал несчастный
Илья Сохатых сын.
Сойду с ума или добьюся,
Адью, мой друг, к тебе стремлюся!..
Прочитав этот «перл» кухарке Громовых и черкесу, он поясняет: «Это называется акростик… В нем сказан предмет любви в заглавных буквах, но вам никогда не вообразить, кого я люблю. Эх, миленькие вы мои… Варвара! Ибрагим!.. Не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю…»
Но кто только в этом глухом таежном, на краю света городишке не знал, что и приказчик Громовых Илья Сохатых тоже обезумел от страсти к Анфисе!
А вот образчик его речей (надо сказать, что он произносит все это, упражняясь в стрельбе из револьвера, оскорбленный отказом Анфисы):
«— Каторга так каторга. Мне все едино без нее не жить! Застрелю ее! А может быть, случайно и себя».
Прохор незаметно подошел к нему:
«— Ты что?
— Да вот в лопату испражняюсь. Прохор Петрович… А попасть не могу. Курсив мой…»
Однако, несмотря на столь «губительную», казалось бы, страсть, Илья Сохатых послушно по приказанию хозяина, который решил жениться на Анфисе, предлагает руку и сердце его супруге Марье Кирилловне.
И вот здесь-то автор романа дополняет психологический портрет этого комического пошляка такой «деталью», от которой он вдруг становится омерзительно-страшен. Расфранченный, в цилиндре, взятом напрокат у парикмахера, Илья Сохатых спешит исполнить приказ хозяина и объясниться в любви матери Прохора. Подползши к ее креслу на коленях, он ухитряется надеть ей на палец «супир», «суперик» (по старому сибирскому выговору). А вслед за тем он делает ей «рапорт», что ее мужа разбил паралич, Анфиса же «застрелена из ружья», и на Прохора пало подозрение.
Сердце Марьи Кирилловны не выдержало. Она умерла…
Илья Сохатых
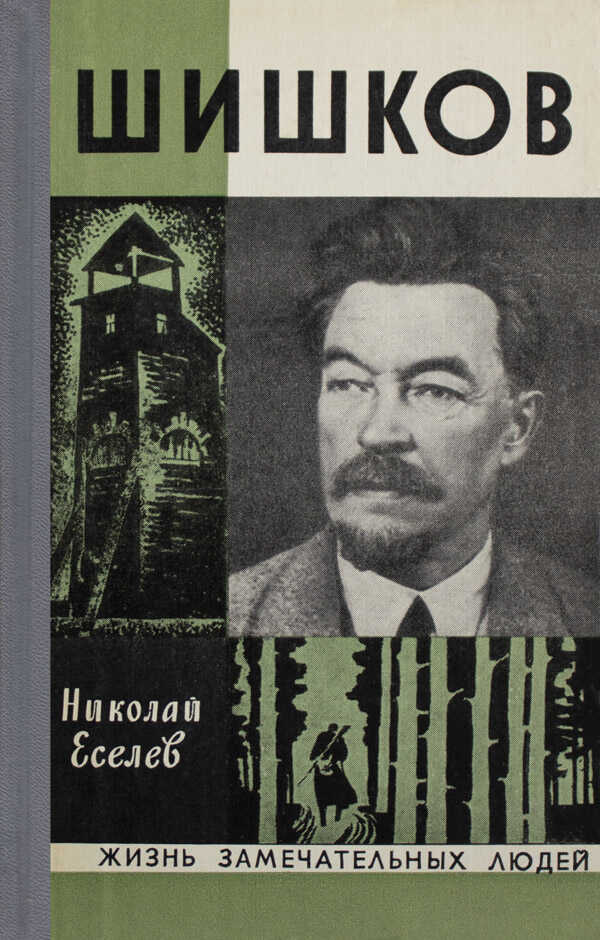


![Deja Vecu [Уже пережитое] - Георгий Евгеньевич Кузьмин](/uploads/posts/books/5203/5203.jpg)

