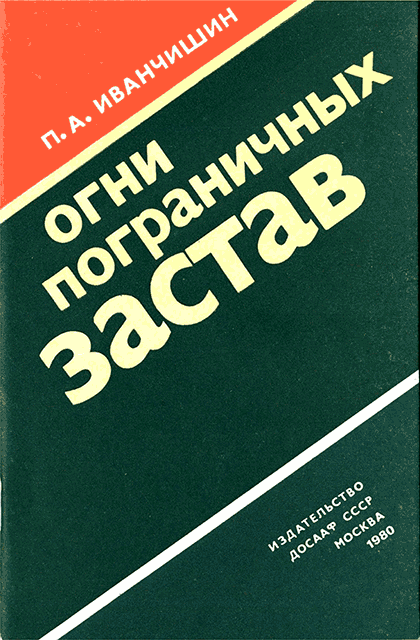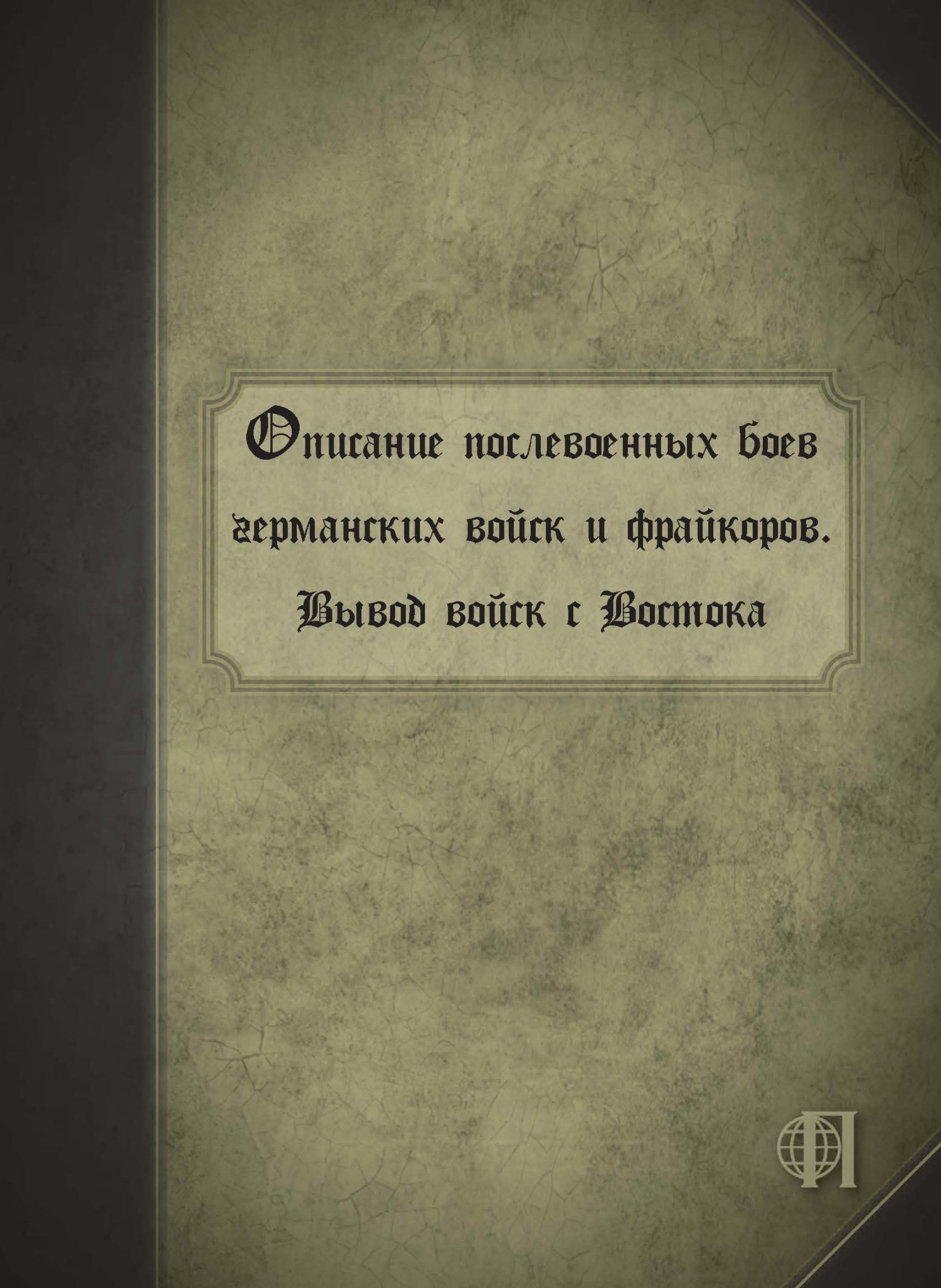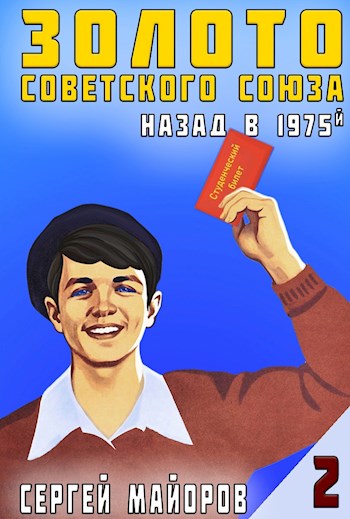Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Спецподразделение КГБ СССР «Вымпел» – это сила самостоятельно мыслящая, принимающая порой очень непростые решения, а иногда и единственно возможные. Сила совестливая, примеров этой высшей чести много: события у Белого дома, Тбилиси, Баку. Рассказать с большей достоверностью вряд ли возможно, ведь автор Валерий Кисёлев – непосредственный участник описанных событий.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Юрьевич Киселёв»: