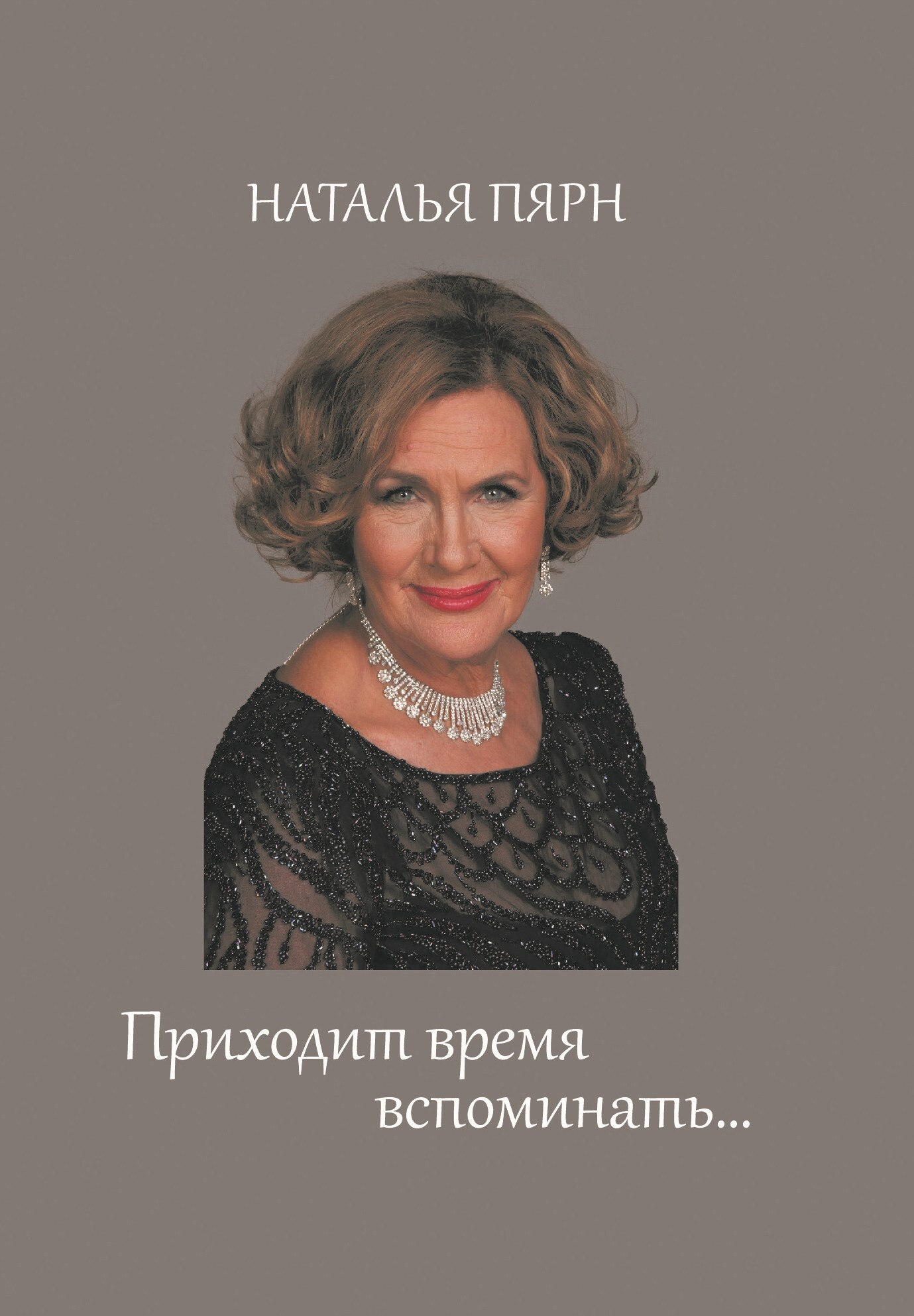Шрифт:
Закладка:
Нина Шацкая-Филатова (1940–2021) – заслуженная артистка России, на чьем счету множество ролей в театре и кино. У Юрия Любимова она играла в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Товарищ, верь», «Мастер и Маргарита», «Тартюф» и других. По фильмам известна ролями в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Чрезвычайное поручение», «Визит к Минотавру»…Настоящую книгу составили два мемуарных произведения актрисы – «Прости… прощай, Таганка!» и «Биография любви».Театр на Таганке стал для Нины Шацкой вторым домом, определил ее творческую судьбу, подарил замечательных коллег и друзей. Среди них Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Вениамин Смехов, Феликс Антипов… Прекрасные страницы воспоминаний оставила она и о своем супруге, с которым вместе начинала здесь работать, Валерии Золотухине. В этом театре познакомилась с талантливым артистом Леонидом Филатовым – ему суждено было стать ее вторым мужем. Их связала не только страстная любовь, но и родство душ, общий интерес к театру, кинематографу, литературе. И она завораживающе и подробно рассказала о блестящем актере, поэте, авторе всеми любимой сказки «Про Федота-стрельца…», а также о почти двадцатилетней жизни Театра, билеты в который покупались заблаговременно, а все спектакли шли с неизменным аншлагом.