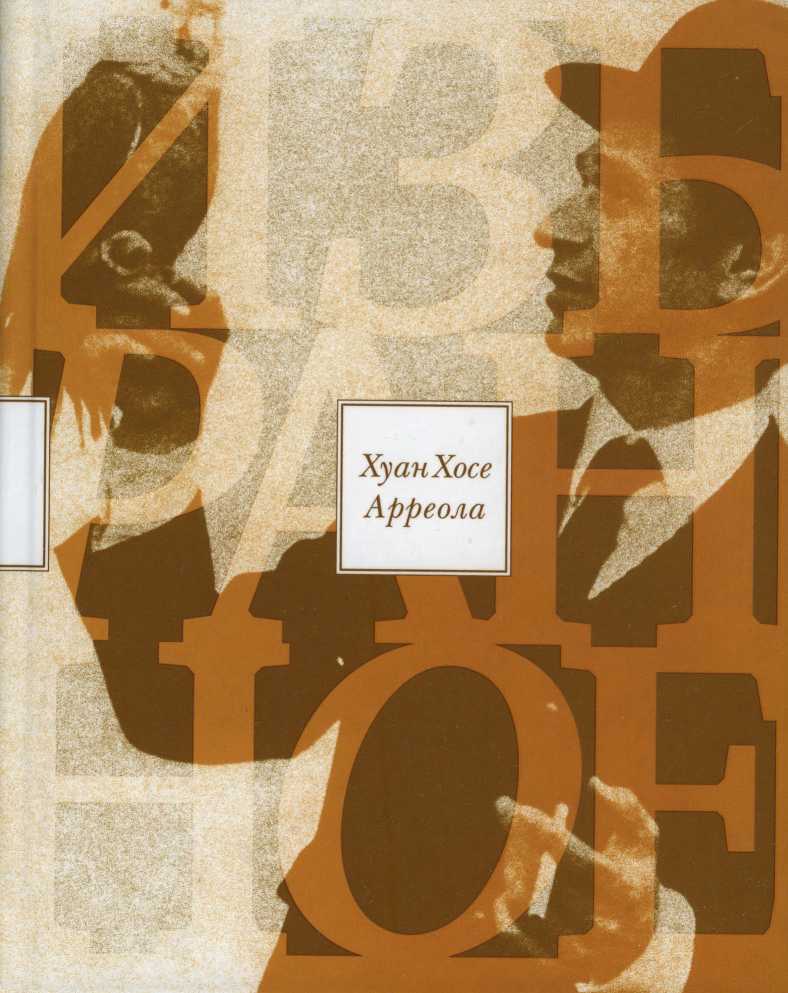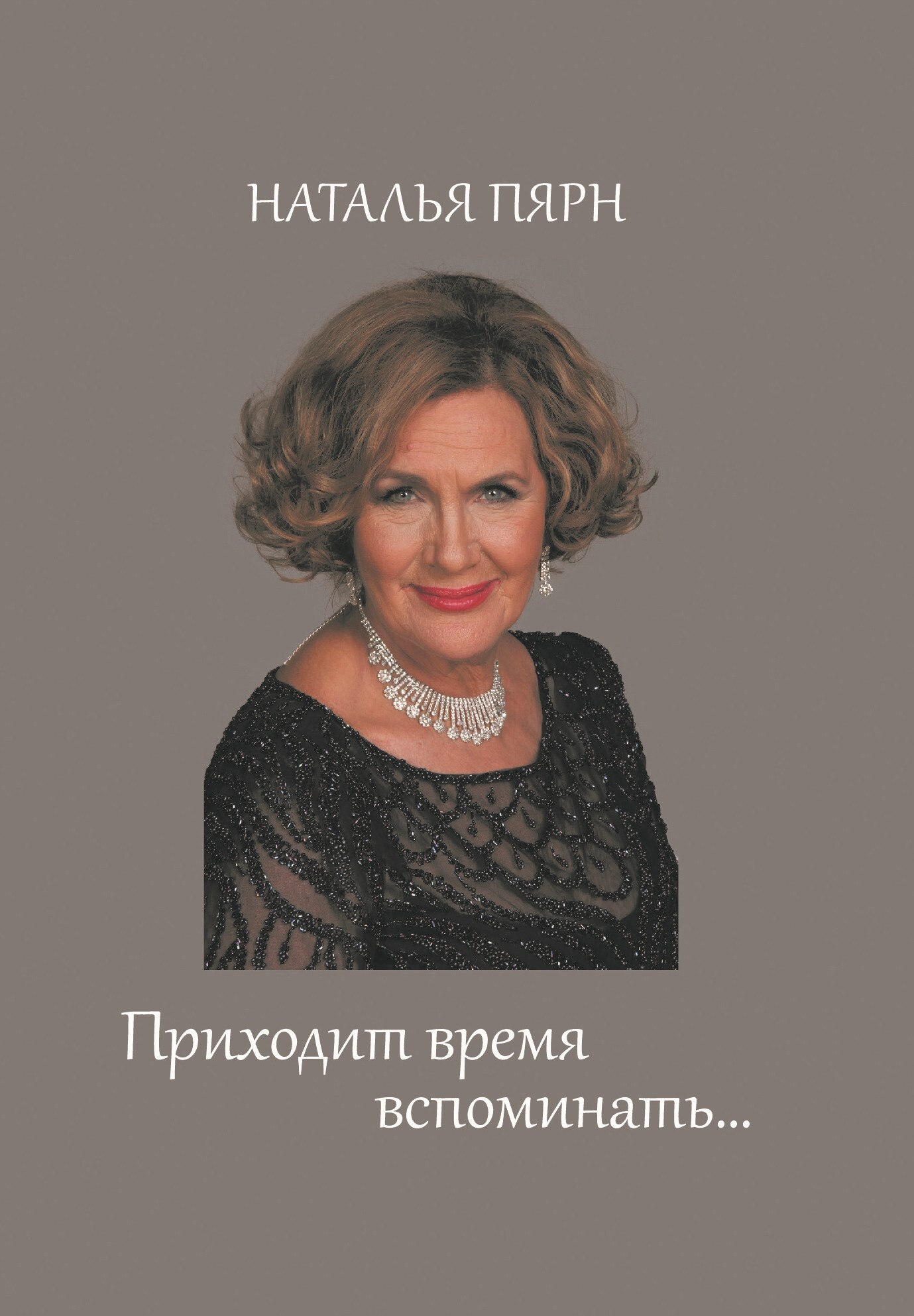Шрифт:
Закладка:
Хуан Хосе Арреола - один из самых выдающихся мексиканских писателей XX века, мастер короткого рассказа-притчи, в котором он сочетает философскую глубину, поэтическую изящность и иронический юмор. Его произведения отражают трагикомическую сущность человеческого бытия, постоянно сталкивающегося с абсурдом и непостижимостью мира.
Избранное - это сборник лучших рассказов Арреолы, в которых он демонстрирует свое уникальное творческое видение и оригинальный стиль. В этих рассказах читатель встретится с разными персонажами: от библейских и мифологических фигур до обычных людей, попавших в необычные ситуации. Арреола играет с жанрами и формами, создавая миниатюры, аллегории, параболы и сатиры. Его тексты полны двусмысленности, символизма и метафоры, которые заставляют читателя задуматься и улыбнуться.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и насладиться тонким и изысканным прозаическим искусством Хуана Хосе Арреолы.