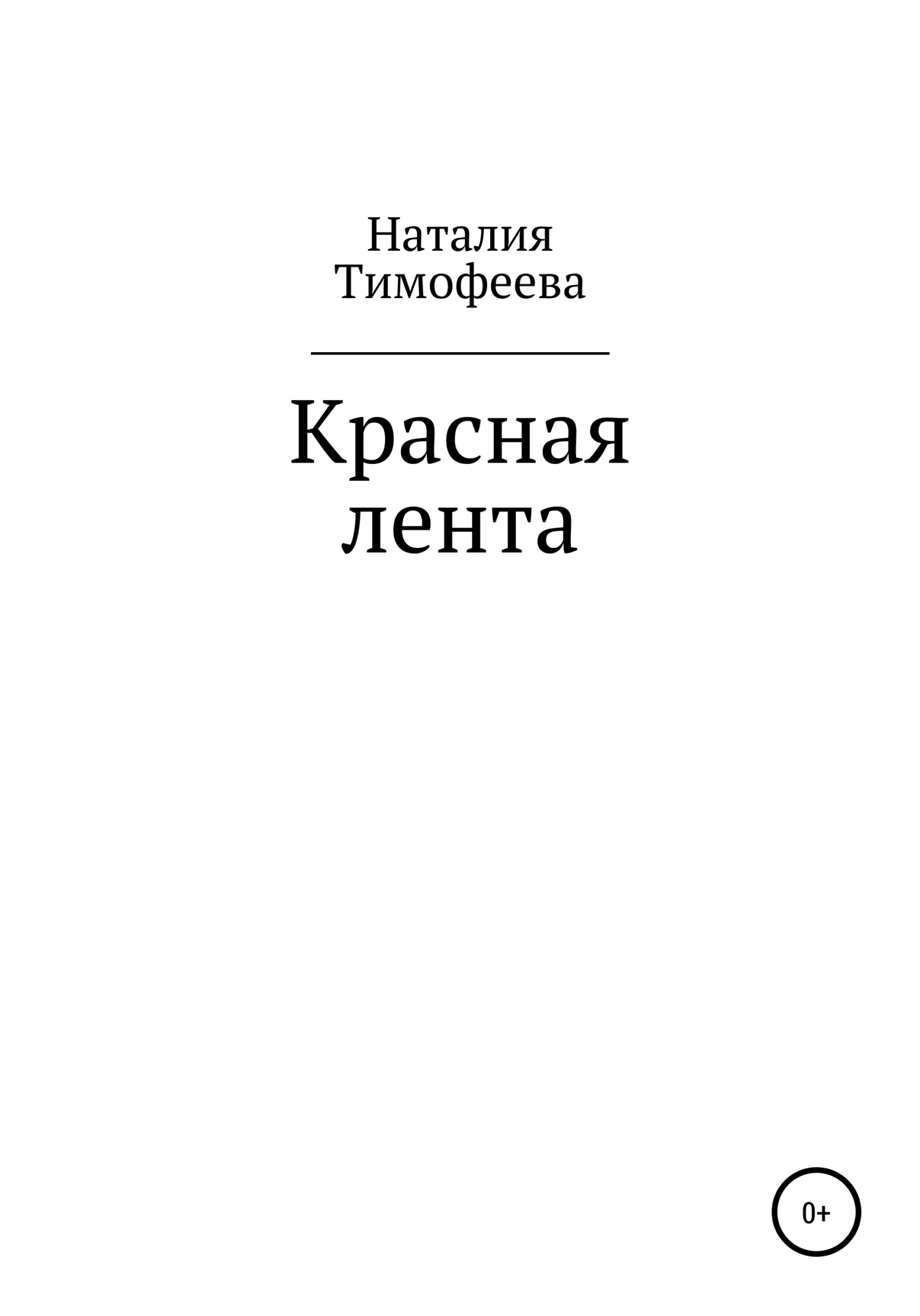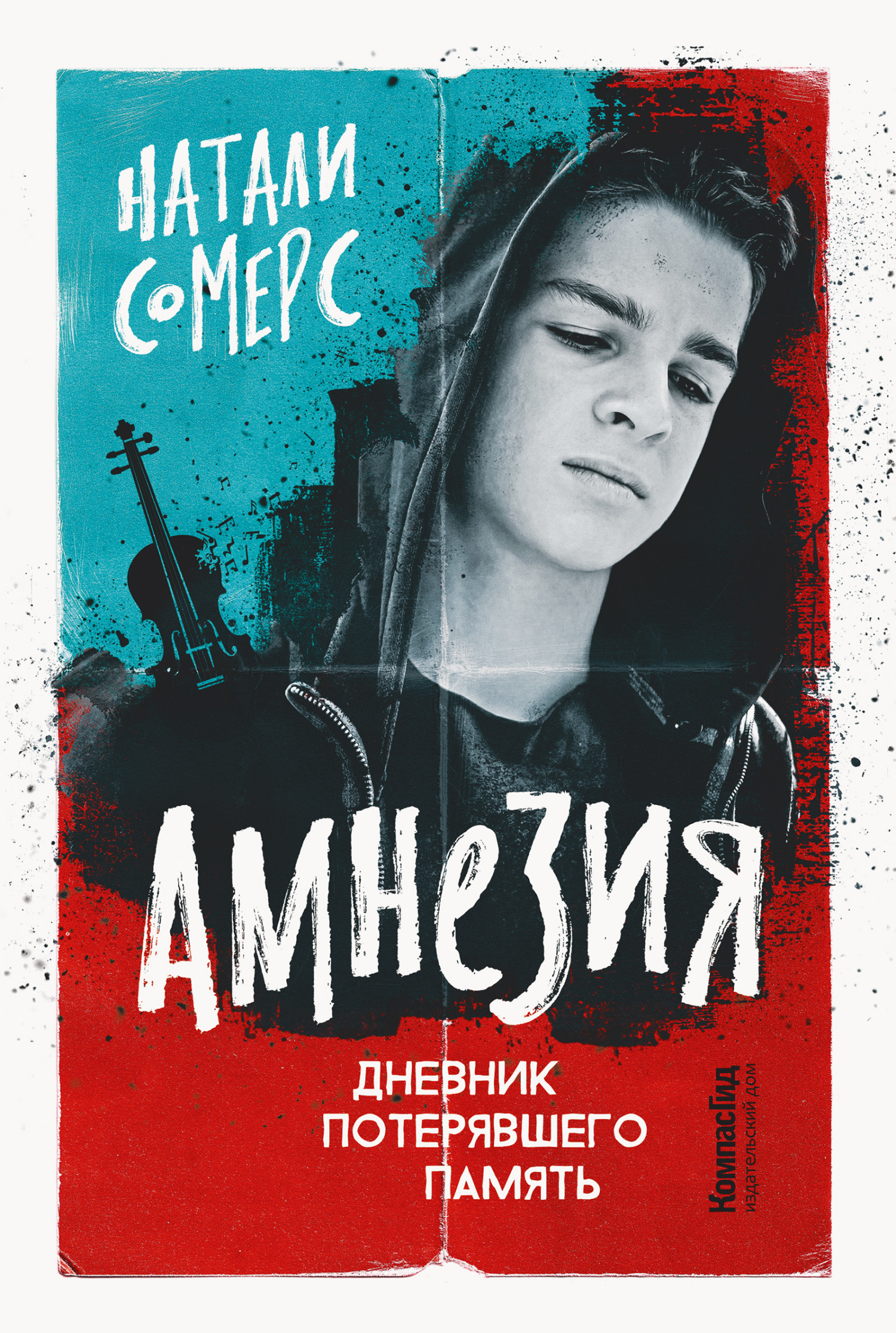Шрифт:
Закладка:
Как уживаются неприятие мира и восхищение им, вера и сомнения, оптимизм и пессимизм, любовь и ненависть, жизнь и смерть, начало и конец? Зачем природе человек? Движется он к вершине смысла или петляет, как заяц, и достигает последней черты, увешанный потерями, словно добычей? Автор пытается найти свои ответы на вечные вопросы, раскрыть связь очевидно несвязуемого, а часто прямо противоположного, проследить в подробностях движения души, насколько это возможно. Понять истинные мотивы поступков, поискать оправдание отдельной жизни и тернистый путь к прощению.Встречи и разговоры с известными личностями, названными в романе подлинными именами, достоверны. Что касается откровений, обещанных в заглавии романа, тут обольщаться не стоит. Вспоминать правду трудно, иногда невозможно – душат неосуществлённые желания, упущенные шансы. Вдохновенная ложь милосерднее.