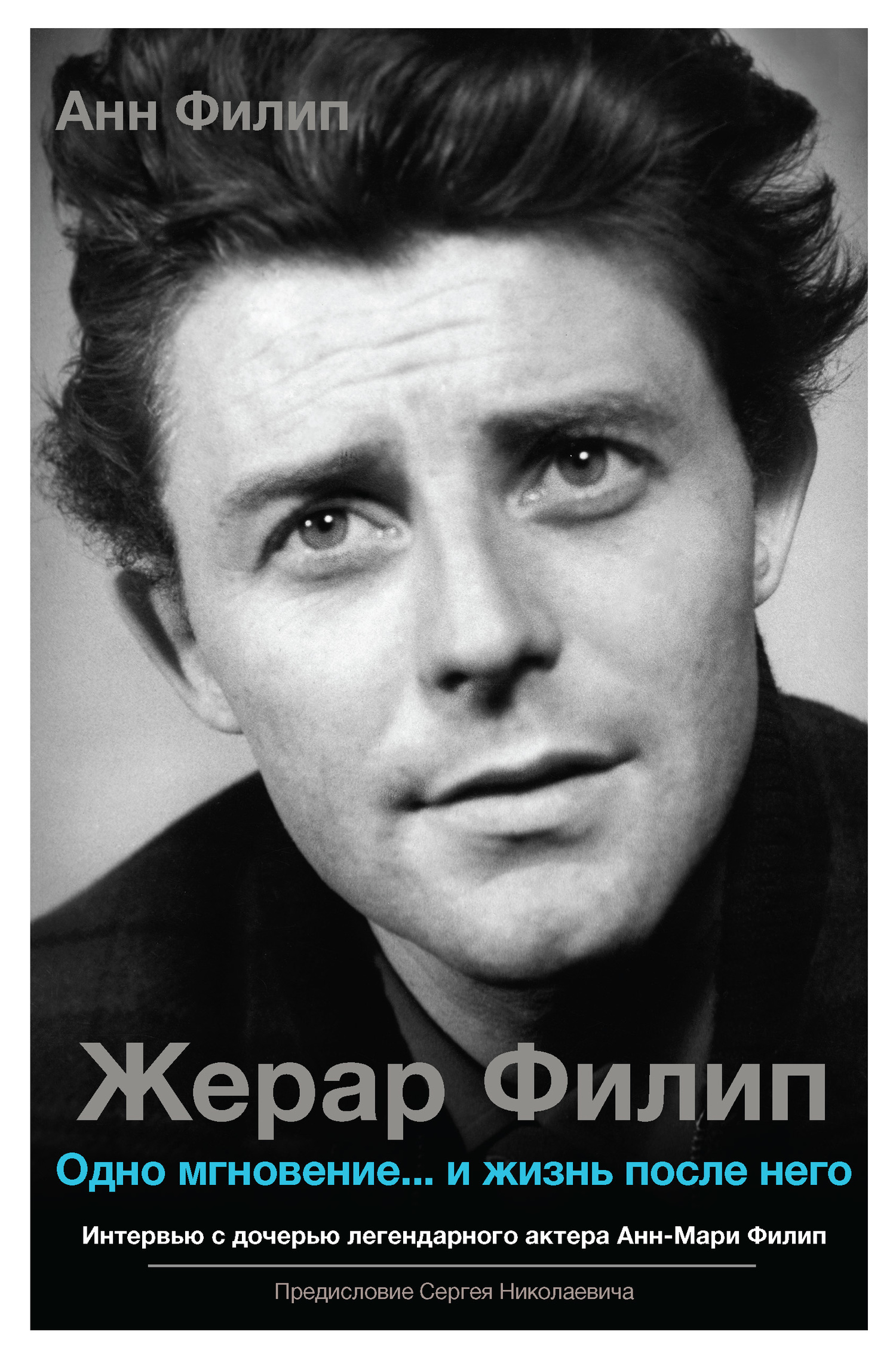Шрифт:
Закладка:
Даже если вы не слышали имени Филипа Гласса, вы, несомненно, слушали его музыку, когда смотрели фильмы «Фантастическая четверка», «Мечта Кассандры», «Иллюзионист», «Забирая жизни», «Тайное окно», «Часы», «Шоу Трумена», «Кундун», а также «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева. В книге, написанной к своему восьмидесятилетию, крупнейший американский композитор-минималист — создатель экспериментальных опер-портретов «Эйнштейн на пляже», «Сатьяграха» (о Махатме Ганди), «Эхнатон», «Галилео Галилей», «Кеплер», соавтор Рави Шанкара, реформатор симфонического языка постмодерна, оказавший влияние на Дэвида Боуи и Брайана Ино, — оглядывается на свою жизнь и видит ее как протянувшееся во времени и пространстве «место музыки», куда можно возвращаться, как в Балтимор или Индию, и там «думать музыку». Потому что музыка Филипа Гласса это и есть его мысль и слово, это и есть та модальность, в которой работают его сознание, воображение и память. Издание второе.