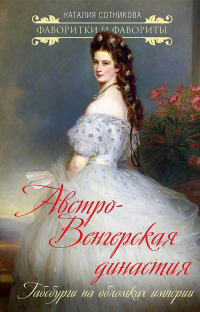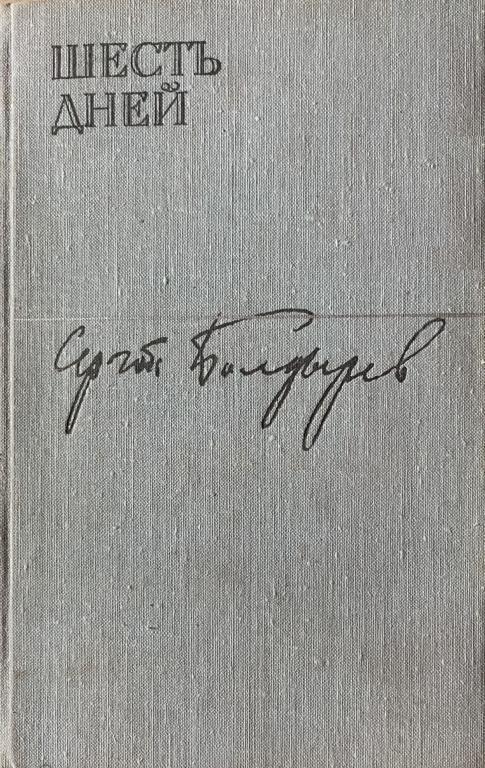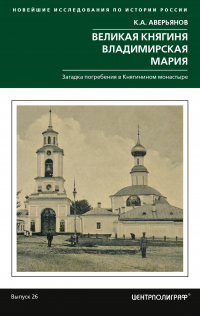Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книге представлены два главных мемуарных источника о жизни и творческих странствиях великого германского (а в сегодняшней оптике – и всеевропейского) поэта Райнера Мария Рильке (1875-1926). Воспоминания аристократки кн. Марии фон Турн-унд-Таксис и самой знаменитой интеллектуалки Европы начала ХХ века Лу Андреас-Саломе публикуются на русском языке впервые. В подробном, информационно насыщенном послесловии переводчик (осуществивший в 2012-2013 гг. проект «Малое собрание сочинений Р.-М. Рильке в семи книгах», отмеченный Бажовской литературной премией) показывает бытийный и философский контекст судьбы поэта в его непрерывных поисках «живой человечности».В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мария фон Турн-унд-Таксис»: