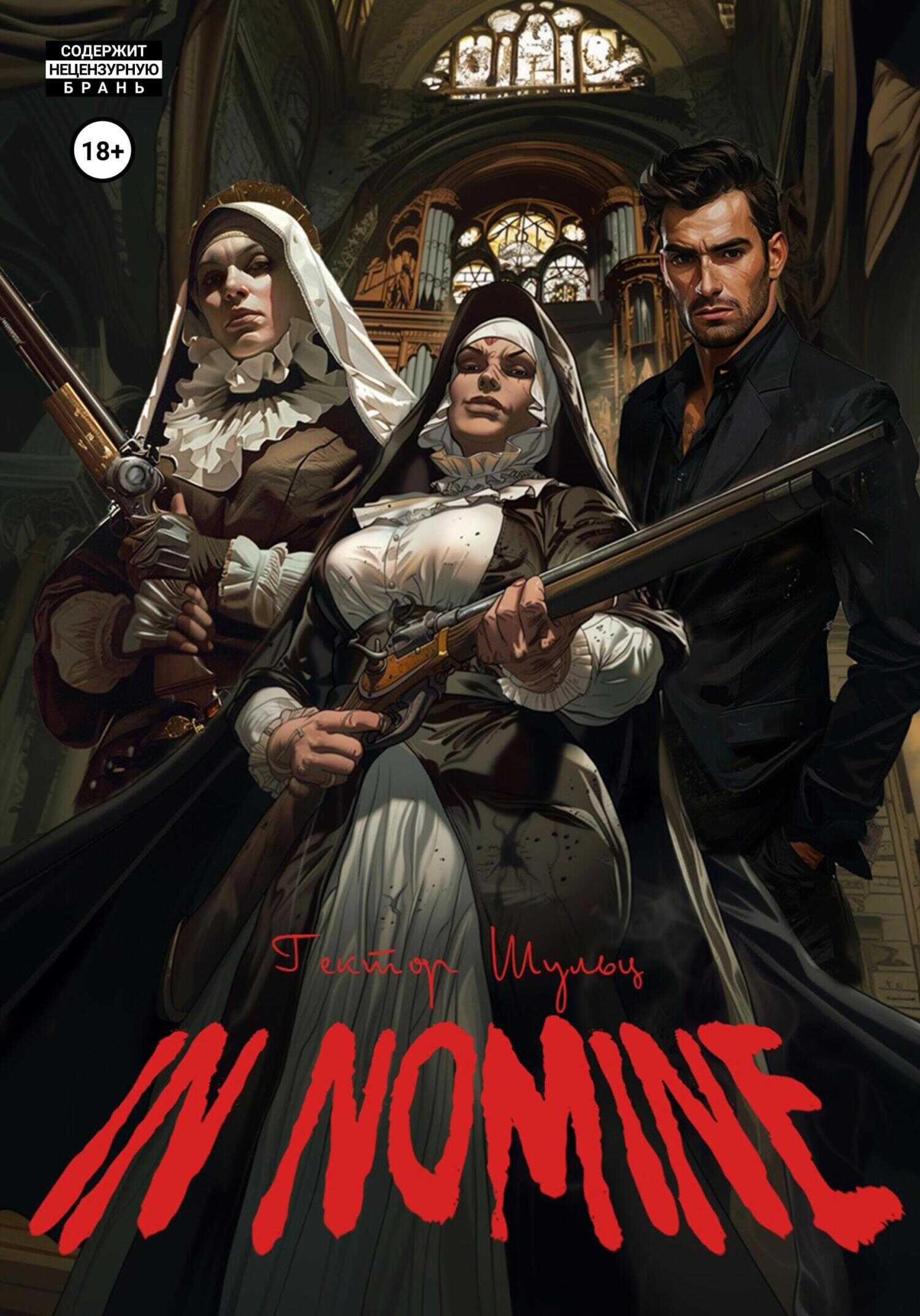Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Конец девяностых глазами ученика одной из неблагополучных провинциальных школ. Его мысли и заметки об одноклассниках и учителях, записанные в темно-синюю тетрадку. О людях и «уродах». О травле и издевательствах, о любви и бедности, о надеждах и мечтах, о жизни в то непростое время. Конец девяностых глазами изгоя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Гектор Шульц»: