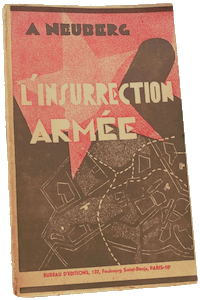Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Дмитрий Громов и Олег Ладыженский (Генри Лайон Олди) — известные украинские писатели, лауреаты множества литературных наград. В сборник «Дверь в зиму» вошли произведения времен войны, развязанной Россией против Украины. Здесь реальность военных будней сплетается с мистикой и фантастикой, трагедии людей — с надеждой, а жестокие и экстремальные испытания — с человечностью и состраданием. Герои рассказов Олди — обычные люди, но каждый из них находит в себе силы противостоять агрессии, злу и отчаянию, обрушившимся на Украину.
© Г.Л. Олди, 2023 © Freedom Letters, 2023
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Генри Лайон Олди»: