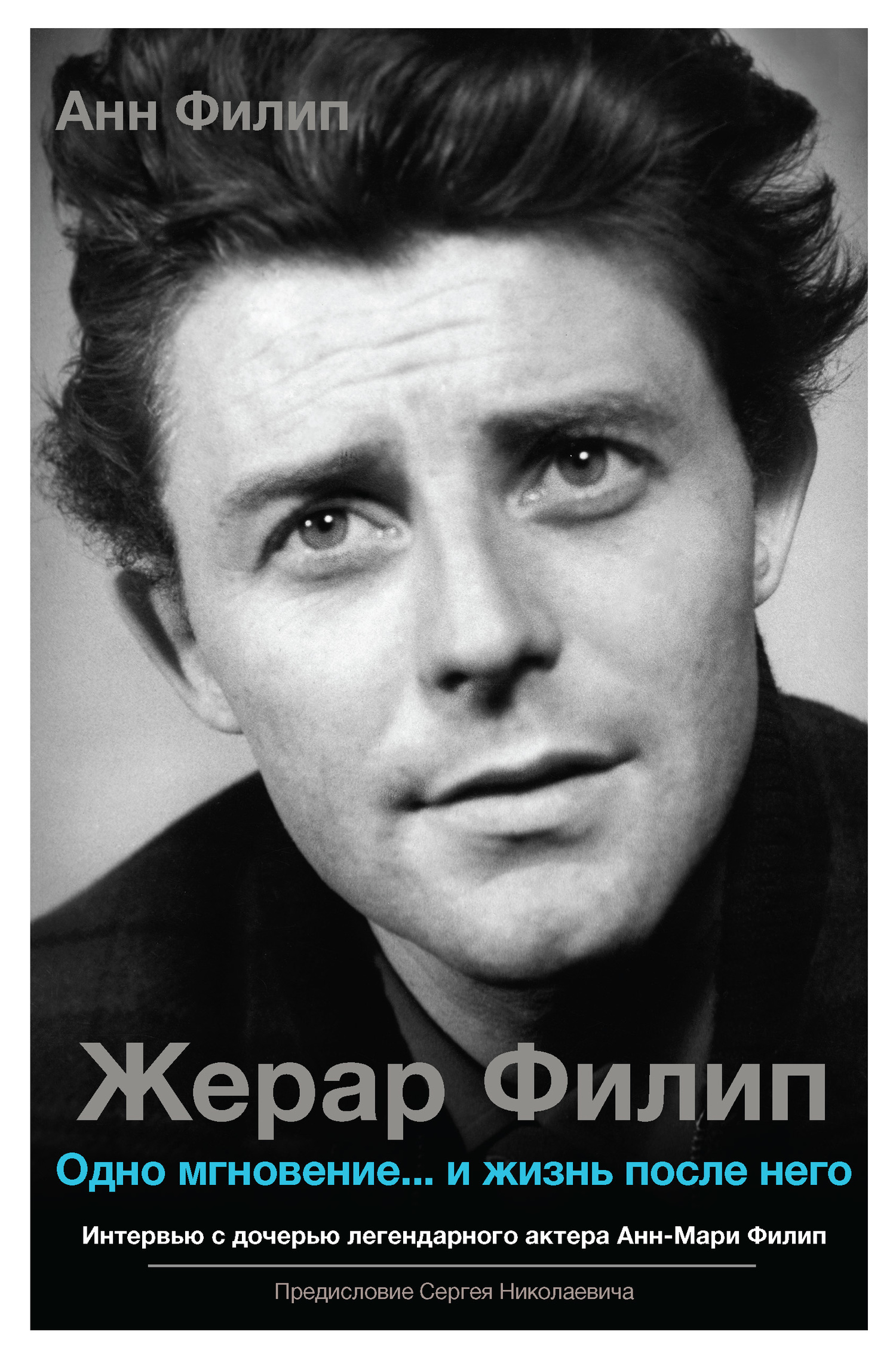Шрифт:
Закладка:
Можно ли повернуть время вспять? Таинственный амбициозный мистификатор Гаустин считает, что можно. С этой целью он открывает первый в мире центр «Возвращение прошлого». Данное учреждение предлагает необычный метод лечения пациентов с болезнью Альцгеймера. Каждый этаж здания с точностью воспроизводит то или иное десятилетие, позволяя людям воскресить воспоминания, казалось бы, навсегда утраченные. Будучи помощником Гаустина, рассказчик охотно включается в игру, принимаясь собирать достоверные обломки прошлого — от мебели 1960-х годов, пуговиц и рубашек 1940-х до вызывающих приступ ностальгии духов. Но чем более убедительной становится инсценировка, тем больше здоровых людей начинает обращаться в клинику, чтобы вырваться из тупика повседневной жизни, — будущее уже никого не привлекает, все хотят вернуться в прошлое. События стремительно приобретают неконтролируемый масштаб. Не обернется ли смелая задумка настоящей катастрофой, когда государства однажды решат переписать историю? Этот роман о том, как выжить в условиях неопределенного будущего. Пронзительное и трагикомичное повествование о временном убежище, которое мы ищем в прошлом, когда настоящее нам не подвластно.