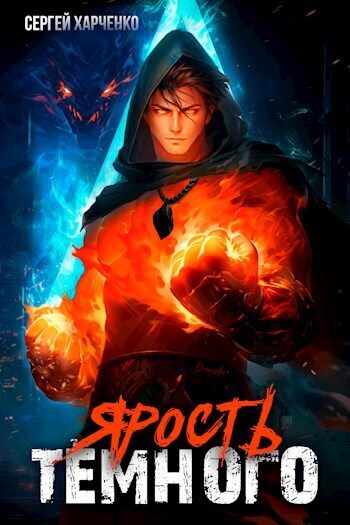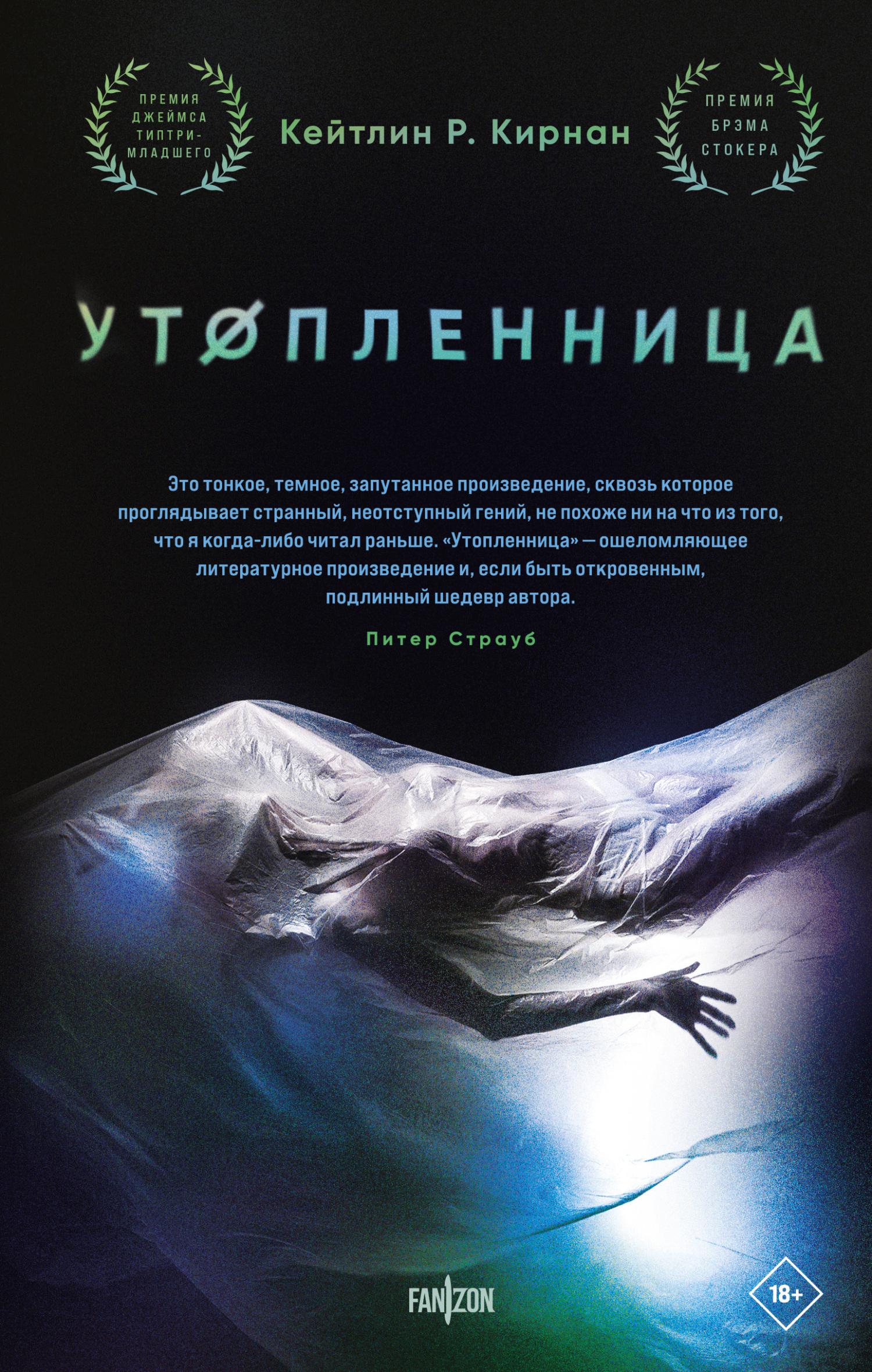Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В эту книгу включены пьесы и рассказы лауреата Нобелевской премии ирландского писателя Сэмюэля Беккета, снискавшего себе всемирную популярность и реноме основоположника «театра абсурда» пьесами «В ожидании Годо», «Последняя лента Крэппа», «Счастливые дни».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сэмюэль Беккет»: