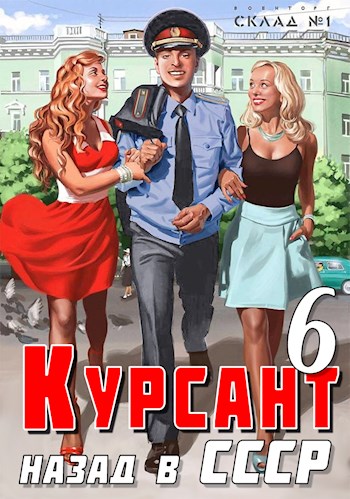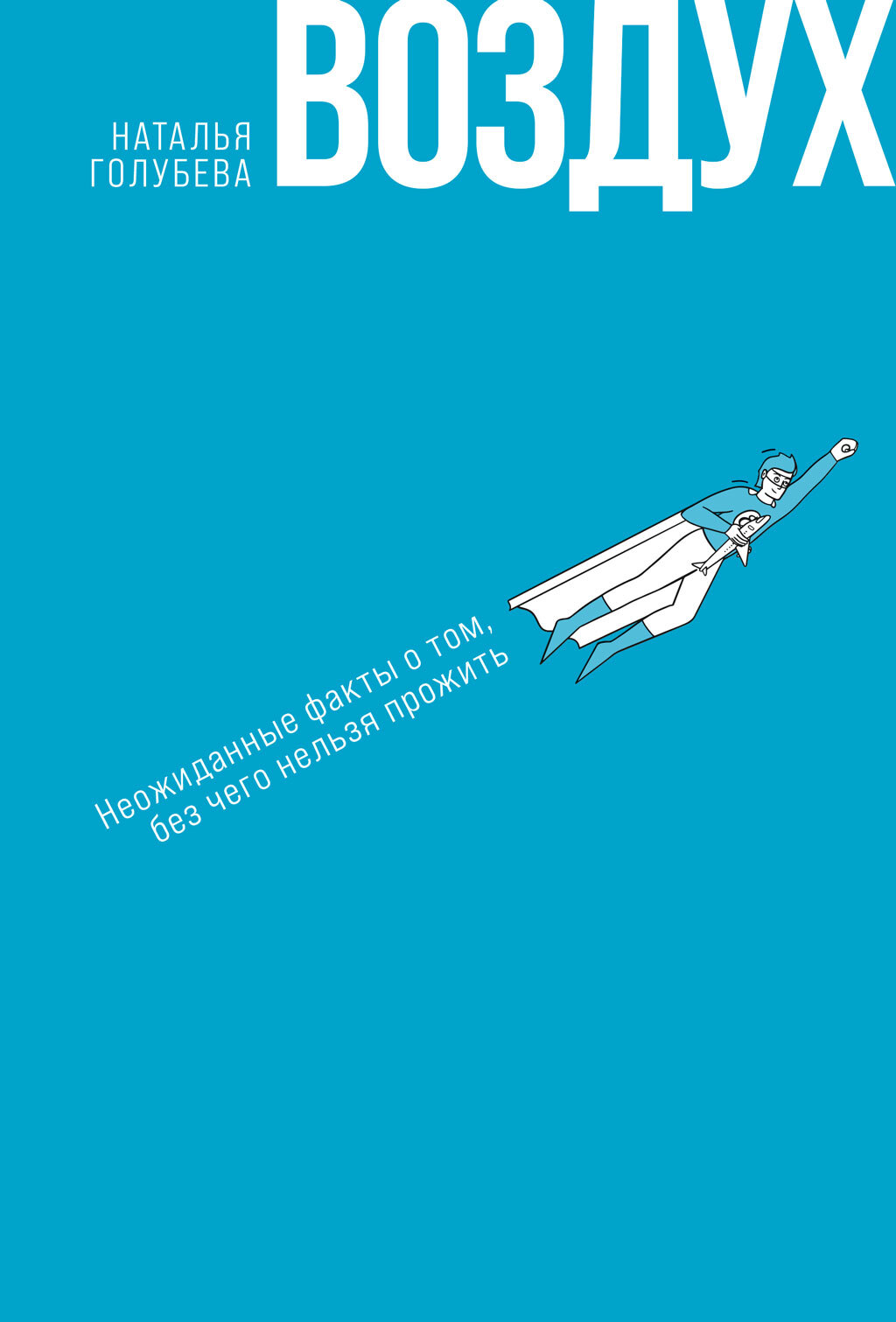Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение приключений Андрея Петрова по прозвищу Курсант в далеком 1978-м году. Живая атмосфера СССР эпохи застоя. Все только начинается…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Рафаэль Дамиров»: