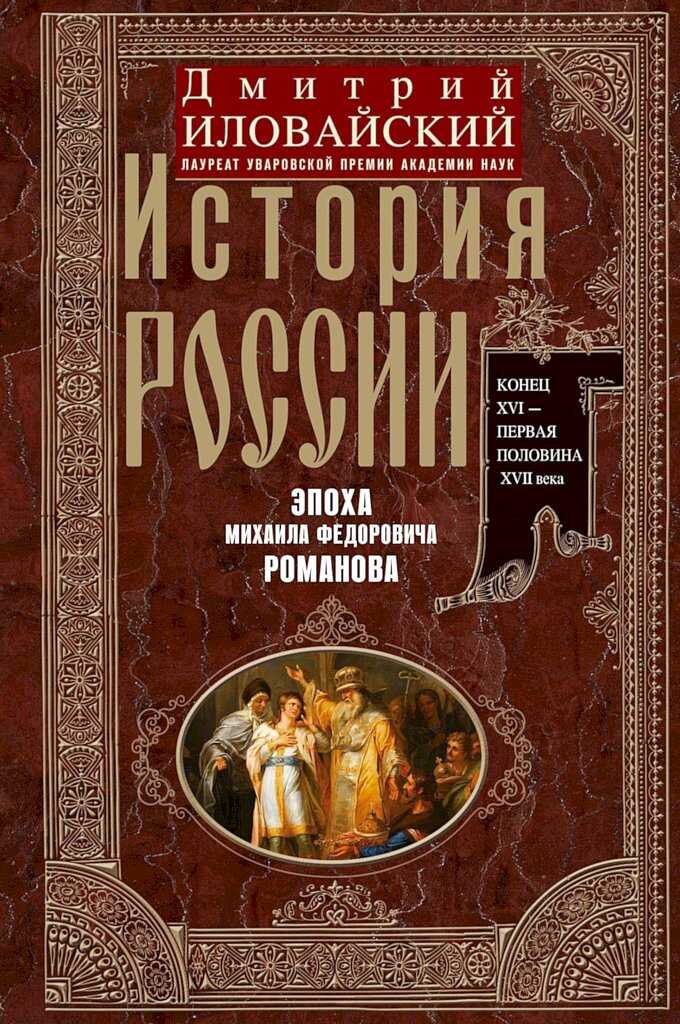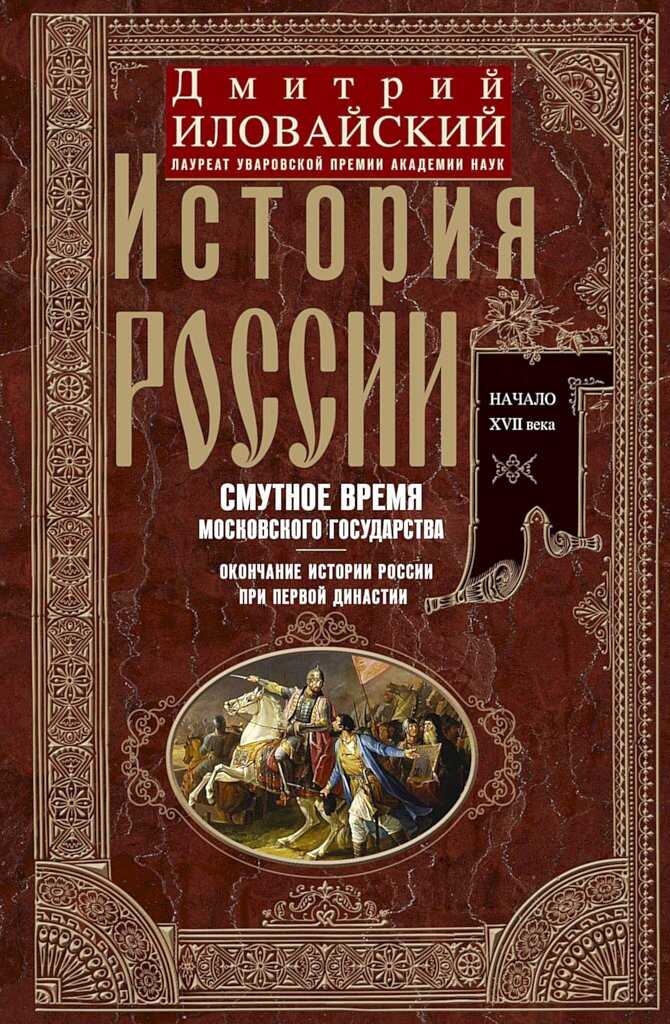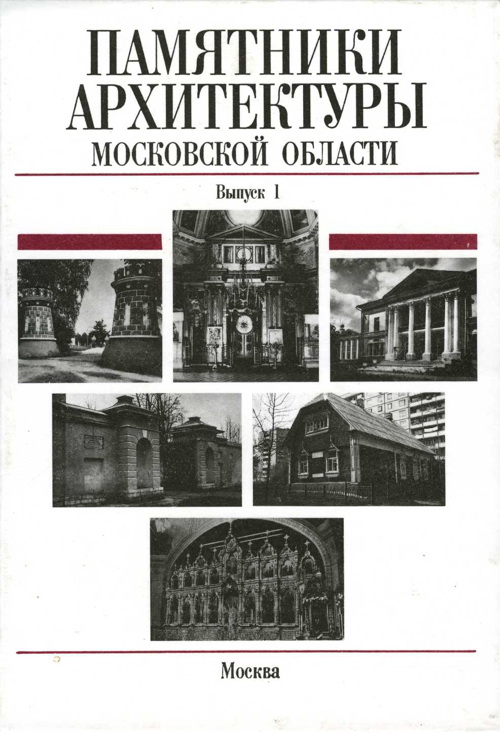Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Выдающийся русский историк, яркий публицист, педагог и общественный деятель Дмитрий Иванович Иловайский в этом томе исследует эпоху первого царя из дома Романовых. После разрушительных бурь Смутного времени наступило сравнительное затишье, когда Русское государство постепенно восстанавливало и укрепляло государственный и общественный порядок вместе с дальнейшим развитием московской централизации. Автор отмечает — лишь смоленская эпопея нарушает относительное спокойствие этой эпохи. Обширные примечания содержат цитаты и ссылки на документальные материалы, включая русские летописи, государственные указы, письма, а также исторические исследования других авторов.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Иванович Иловайский»: