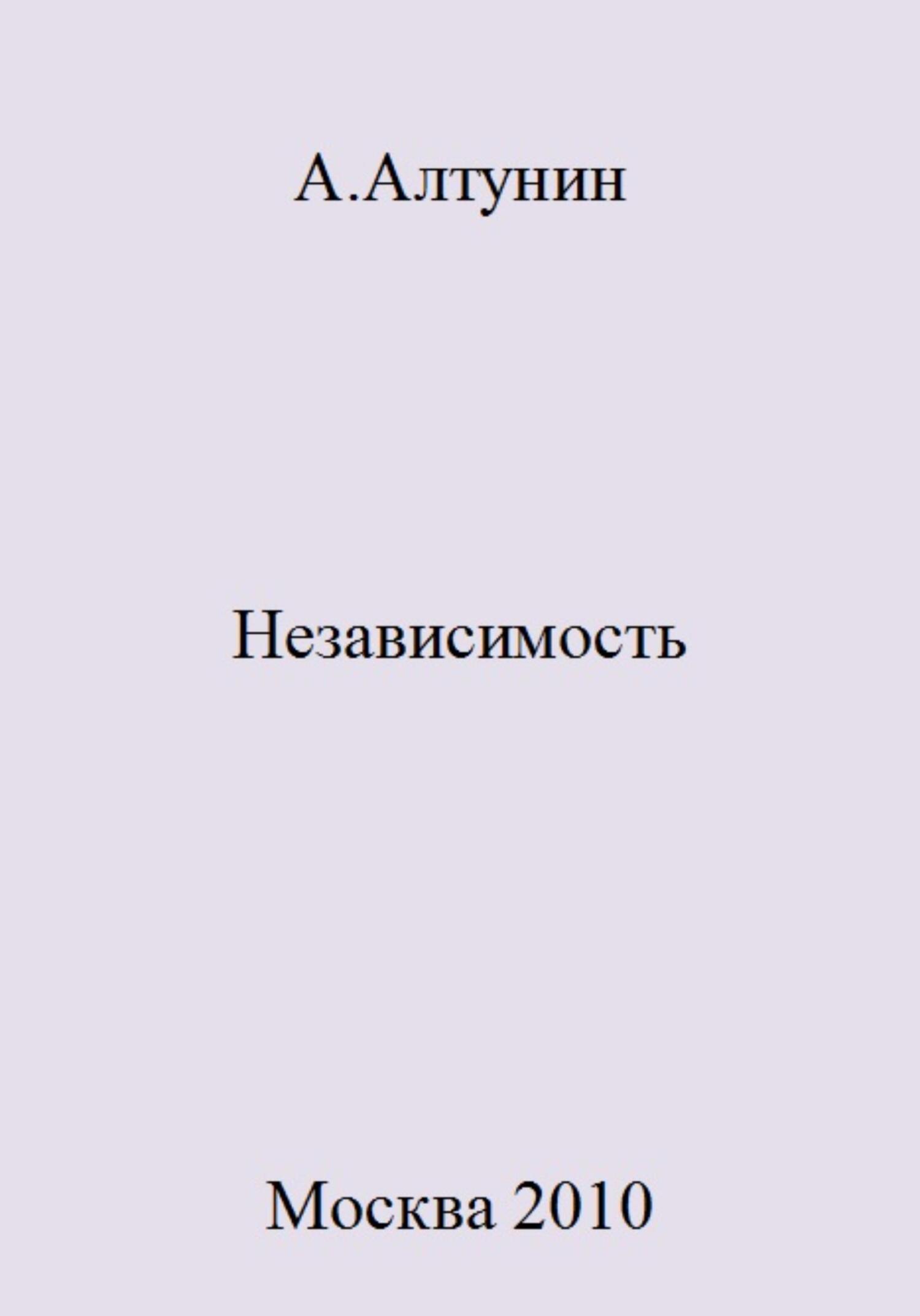Шрифт:
Закладка:
Современный классик Викрам Сет – настоящий гражданин мира. Родился в Индии, учился в Оксфорде, а также в Стэнфордском университете в Калифорнии, где вместо диссертации по экономике написал свой первый роман «Золотые Ворота» об американских яппи – и это был роман в стихах; более того, от начала до конца написанный онегинской строфой. А через много лет работы вышел и «Достойный жених» – «эпопея, многофигурная, как романы Диккенса или Троллопа, и необъятная, как сама Индия» (San Francisco Chronicle), рекордная по многим показателям: самый длинный в истории английской литературы роман, какой удавалось опубликовать одним томом; переводы на три десятка языков и всемирный тираж, достигший 26 миллионов экземпляров.Действие происходит в вымышленном городе Брахмпур на берегу Ганга вскоре после обретения Индией независимости; госпожа Рупа Мера, выдав замуж старшую дочь Савиту, пытается найти достойного жениха для младшей дочери, студентки Латы, – а та, как девушка современная, имеет свое мнение на этот счет и склонна слушать не старших, а собственное сердце…В 2020 году первый канал Би-би-си выпустил по роману мини-сериал, известный по-русски как «Подходящий жених»; постановщиком выступила Мира Наир («Ярмарка тщеславия», «Нью-Йорк, я люблю тебя»), а сценарий написал прославленный Эндрю Дэвис («Отверженные», «Война и мир», «Возвращение в Брайдсхед», «Нортенгерское аббатство», «Разум и чувства»).