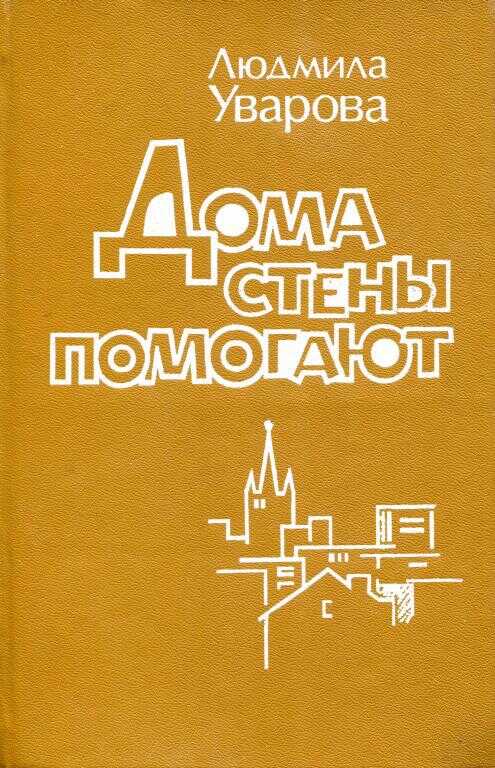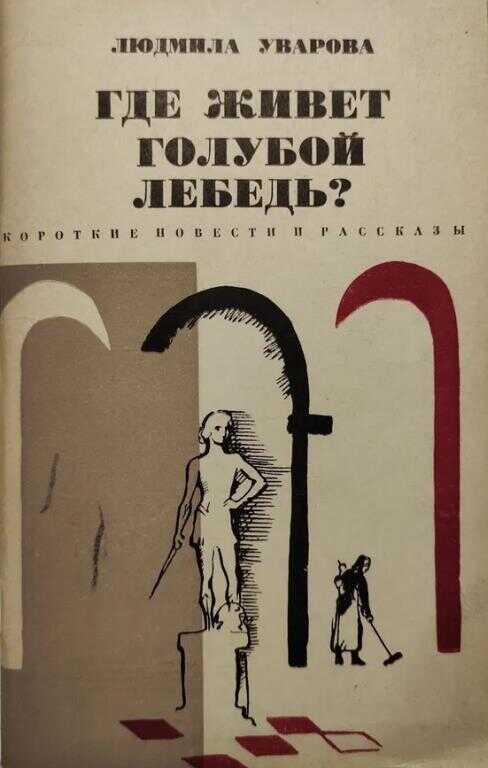Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Новую книгу Людмилы Уваровой составляют рассказы и повести о наших современниках. Писательница ведет разговор о любви и браке, о сложных психологических конфликтах, какие порой возникают в семье. Герои ее произведений — москвичи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Людмила Захаровна Уварова»: