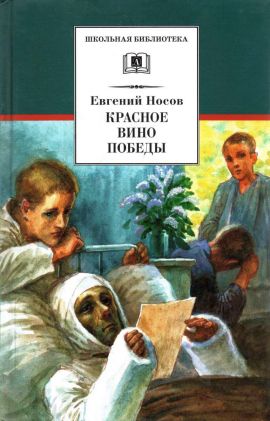Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник известного мастера прозы включены рассказы о деревне, о работе на земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема войны, тема народной памяти, ее социально-нравственной значимости в наши дни. Для старшего школьного возраста. Художники: Башков Леонид Григорьевич, Далецкая Юлия Павловна. Иллюстрации на переплете Косульников Борис Михайлович.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Иванович Носов»: