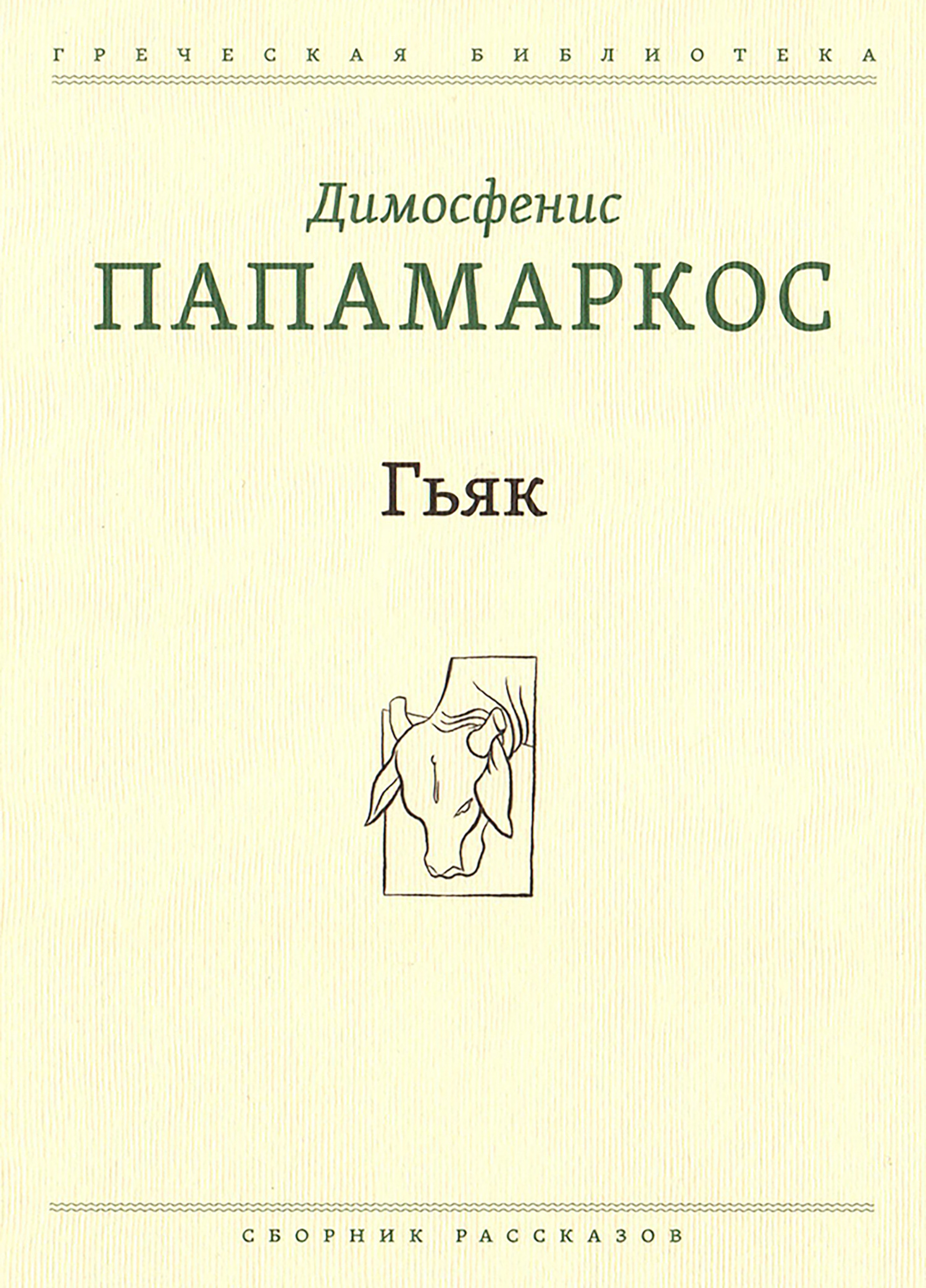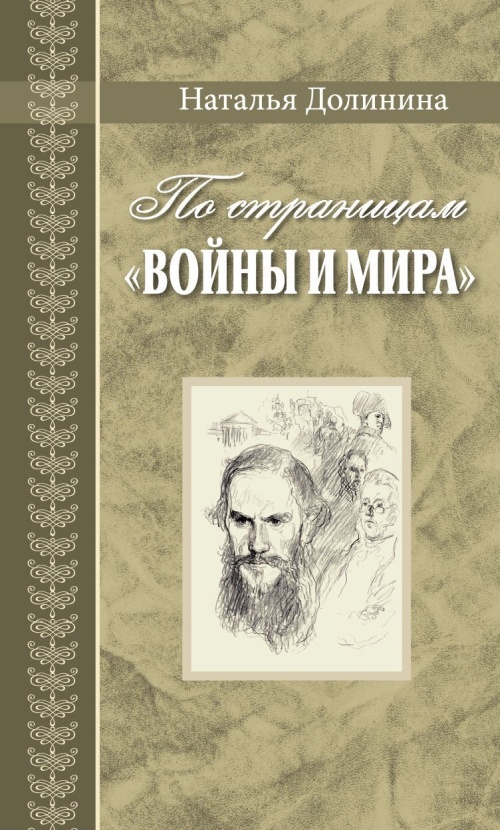Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник «Гьяк» – самое известное на сегодняшний день произведение молодого греческого писателя Димосфениса Папамаркоса. Предлагаемая вниманию читателя книга – первый опыт перевода всего сборника рассказов. Теперь услышать истории героев Папамаркоса, вернувшихся с греко-турецкой войны 1919–1922 гг. и пытающихся осмыслить этот опыт, доступны не только соотечественникам писателя, но и русскоязычной аудитории.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Димосфенис Папамаркос»: