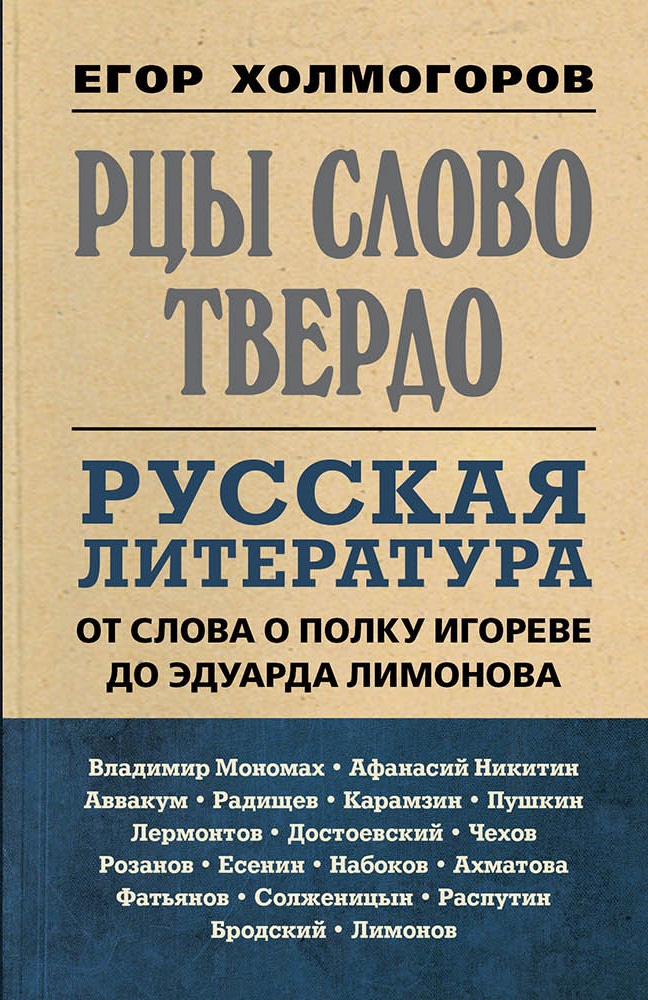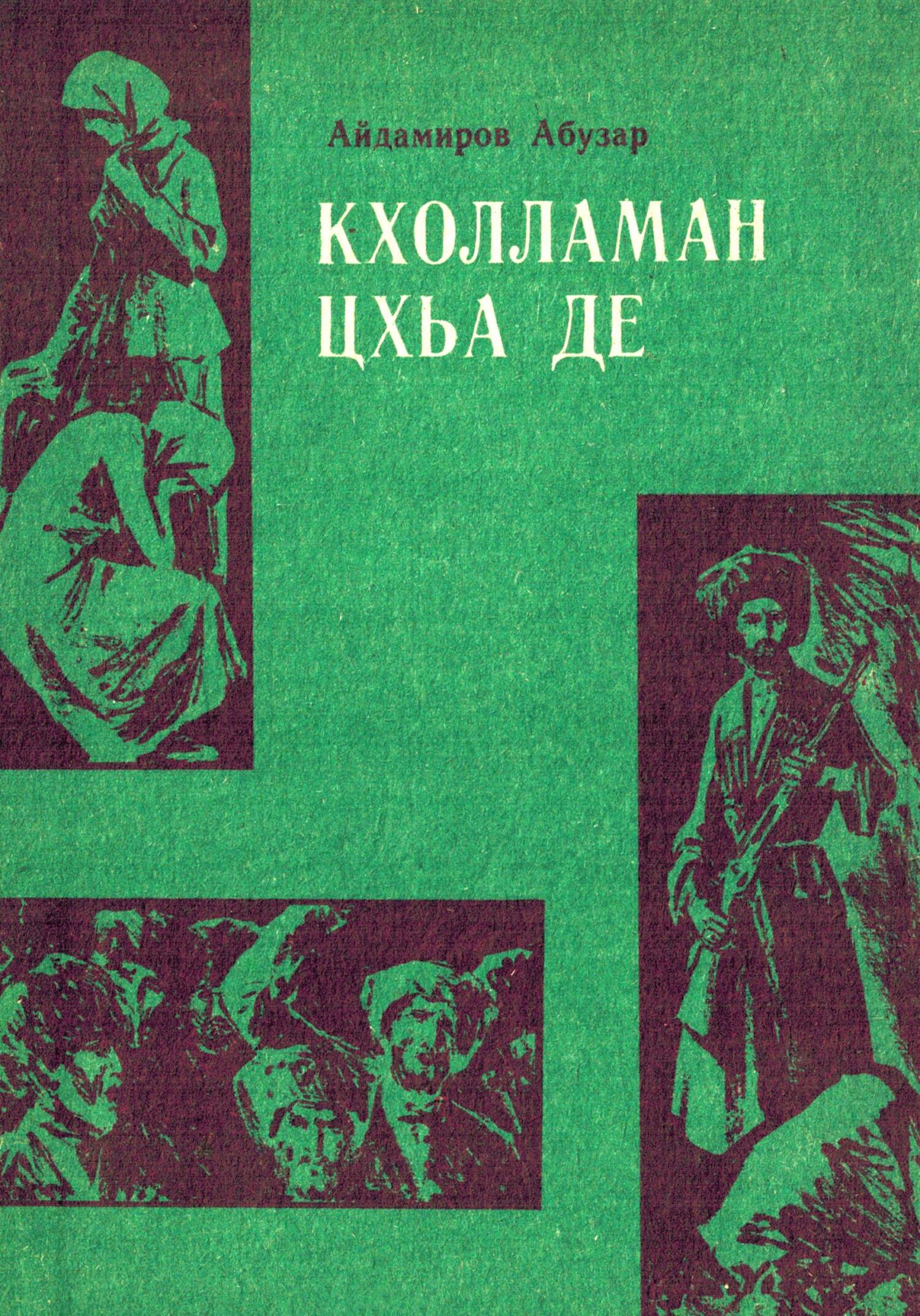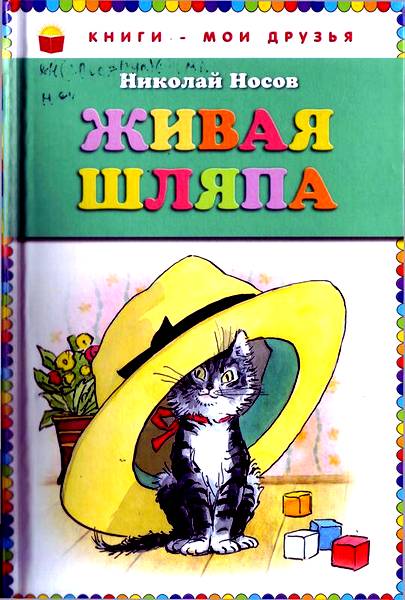Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга, которую вы держите в руках, уникальна: автор приглашает вас на прогулку по заповедным местам Москвы, хранящим память о «легкой походке» самого обаятельного поэта России – Сергея Есенина.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталья Г. Леонова»: