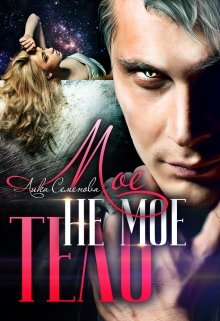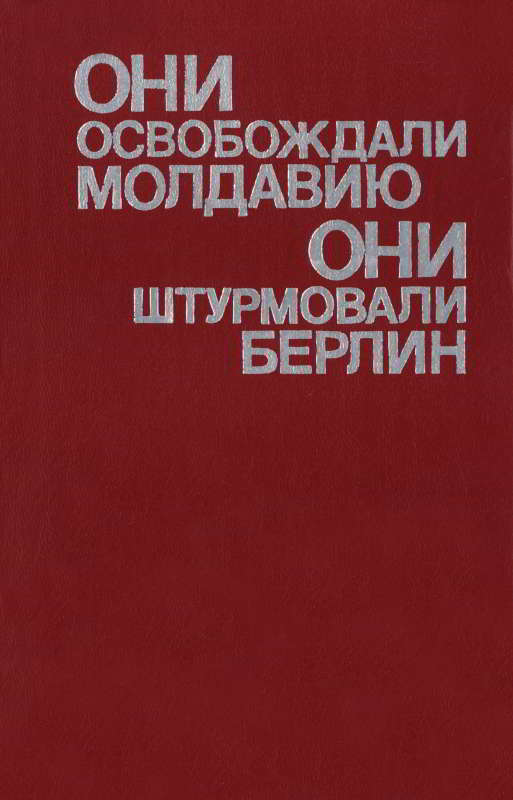Шрифт:
Закладка:
Книга «Мое не мое тело. Пленница» Лики Семеновой – это эротическая фантастика, в которой главная героиня попадает в параллельный мир, где правят жестокие законы и сексуальное насилие. Она становится пленницей властного и безжалостного вождя, который хочет сделать ее своей игрушкой. Но она не собирается сдаваться без боя и пытается найти способ вернуться домой.
Это книга для тех, кто любит откровенные сцены, властных героев, отношения по принуждению и малованили. Автор создает увлекательный мир, полный опасностей, интриг и страсти. Героиня проходит через множество испытаний, прежде чем понять, что ее чувства к вождю не так просты, как она думала. Она должна выбрать между своим прошлым и будущим, между свободой и любовью.
«Мое не мое тело. Пленница» – это роман, который не оставит вас равнодушными. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Наслаждайтесь чтением!