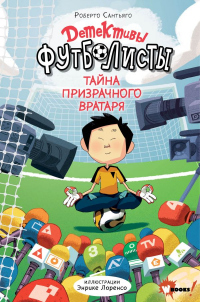Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Л. Лазарев - литературный критик и журналист старшего поколения, фронтовик, один из "новомирских" авторов, главный редактор самого авторитетного периодического литературоведческого издания - журнала "Вопросы литературы", в котором проработал почти четыре десятилетия. Лазарь Ильич был участником и свидетелем многих примечательных событий нашей литературной жизни в "оттепельные" и "застойные" годы, хорошо знал (а со многими был связан дружескими отношениями) писателей, которые были властителями дум той поры.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лазарь Ильич Лазарев»: