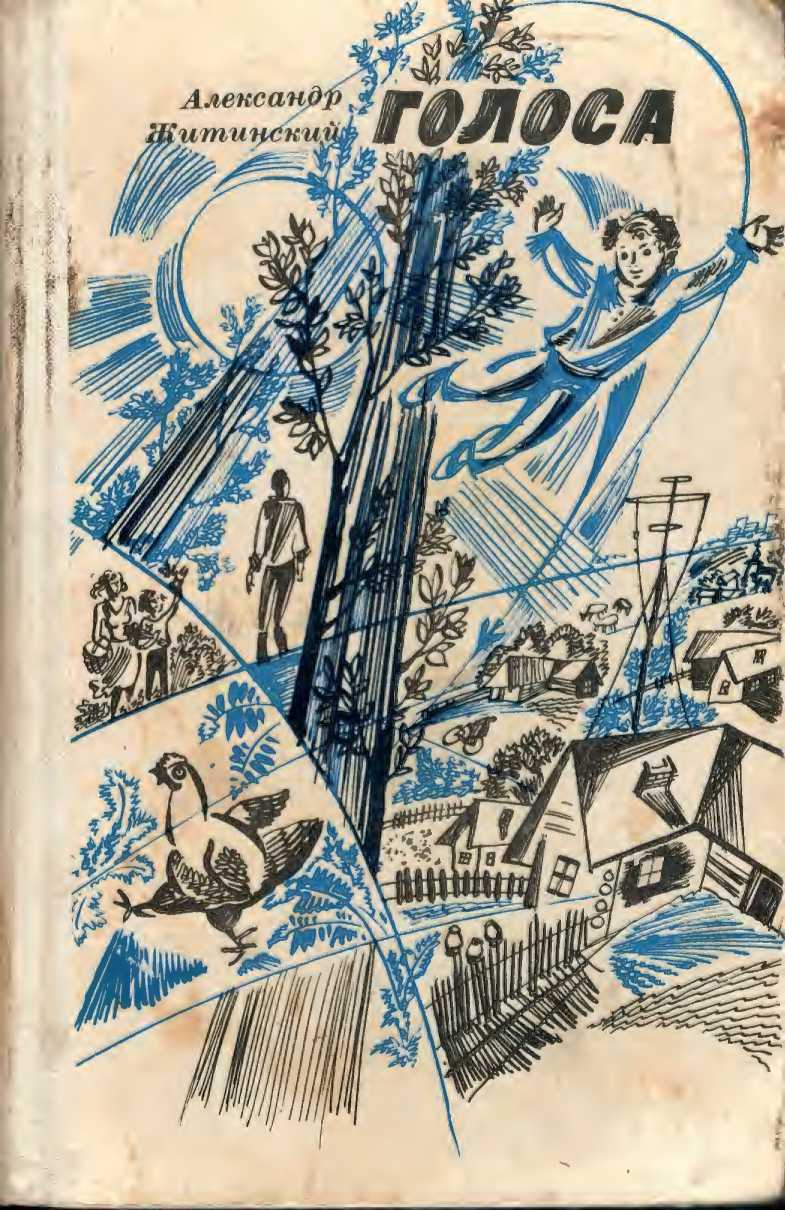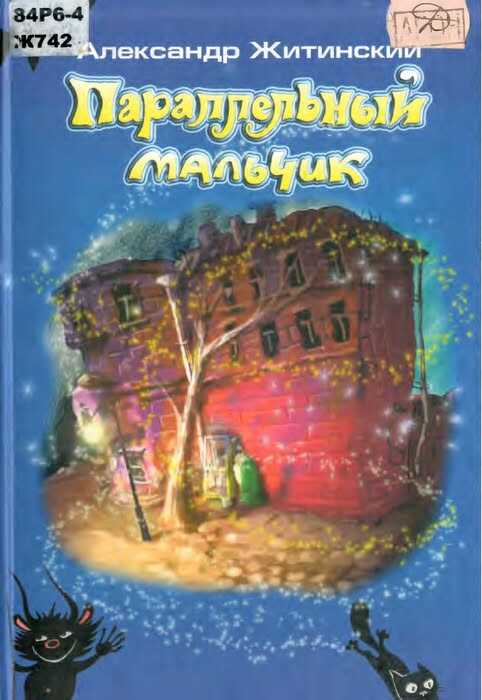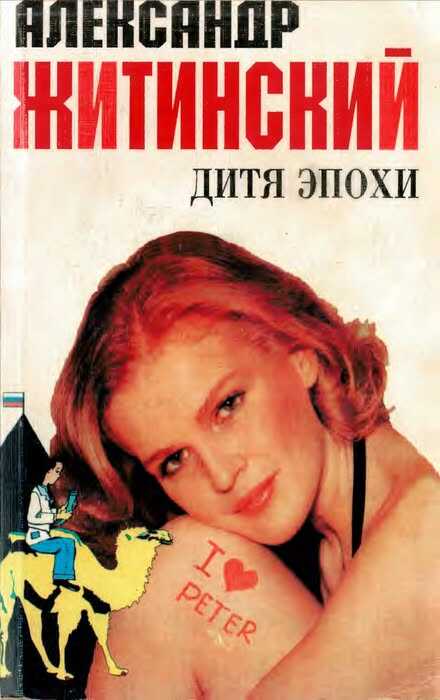Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Житинский А. Н.
Ж74 От первого лица: Повести.— Л.: Лениздат, 1982.— 400 с., ил.
Вторая книга прозы молодого ленинградского писателя. В нее вошли произведения, написанные и опубликованные автором за последние десять лет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Николаевич Житинский»: