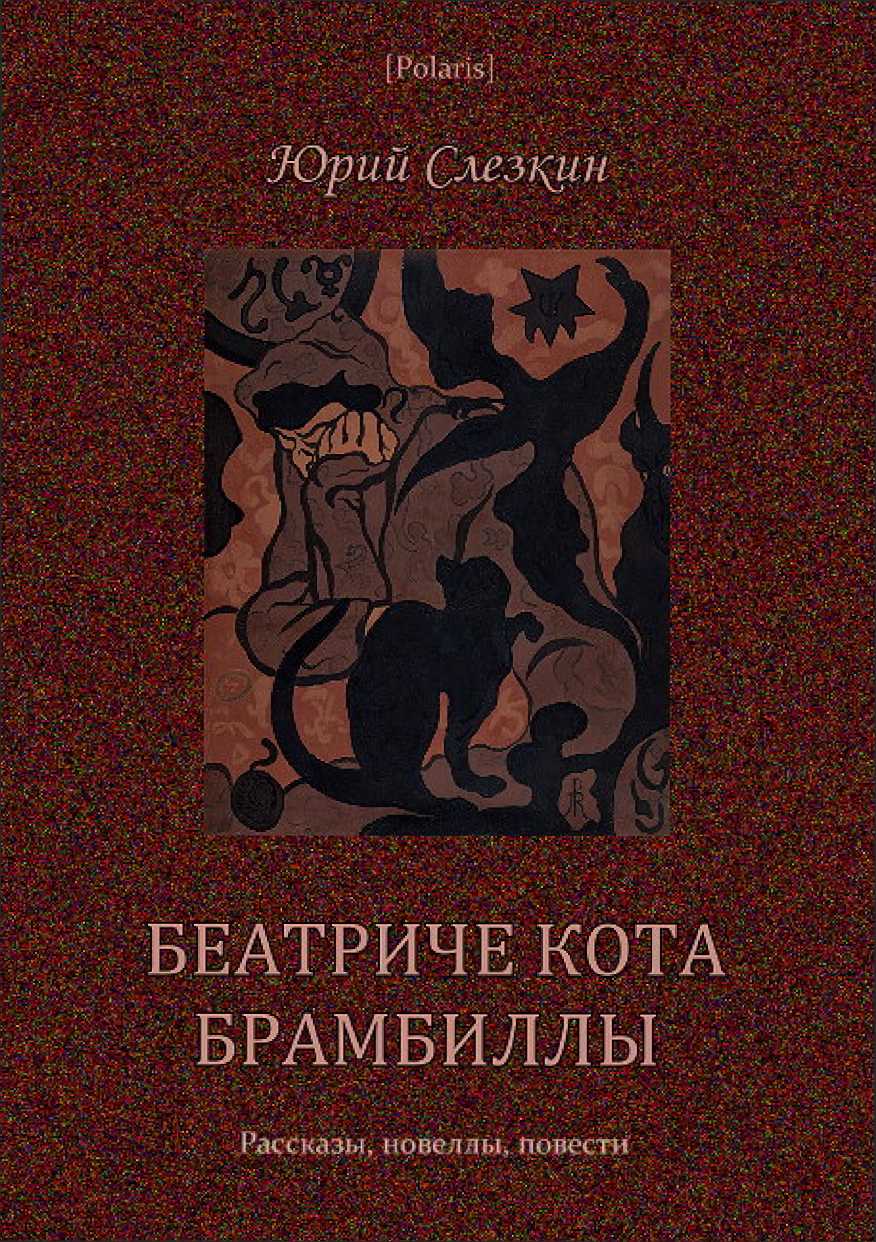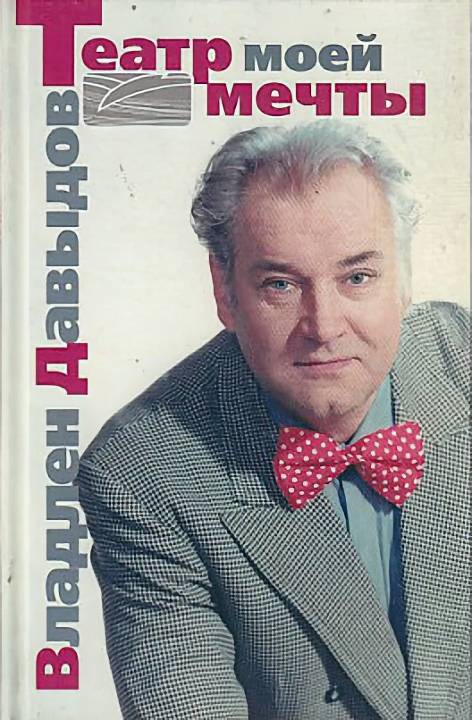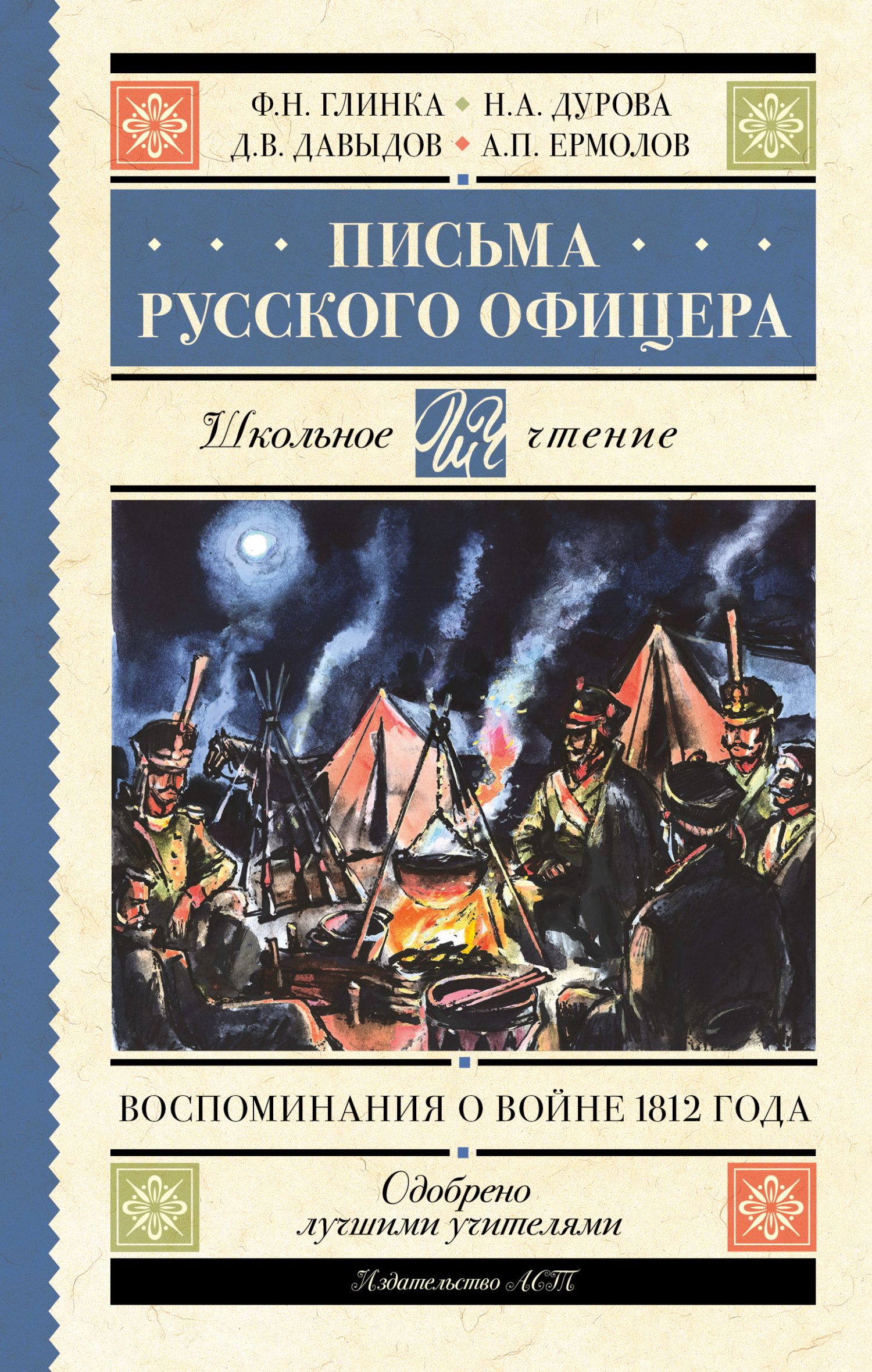Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Прозаика Ю. Л. Слезкина (1885–1947) помнят сегодня в основном как одного из друзей-недругов М. А. Булгакова, однако в 1910-1920-х гг. он был весьма популярным и даже знаменитым беллетристом. В книгу вошли произведения, раскрывающие различные грани его таланта: небольшие романтические повести, а также «страшные» и фантастические новеллы и рассказы. Существенная часть этих произведений переиздается впервые. Russian Silver Age prose, Fantasy, Mysticism, русская проза Серебряного века, фантастика, мистика
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Львович Слёзкин»: