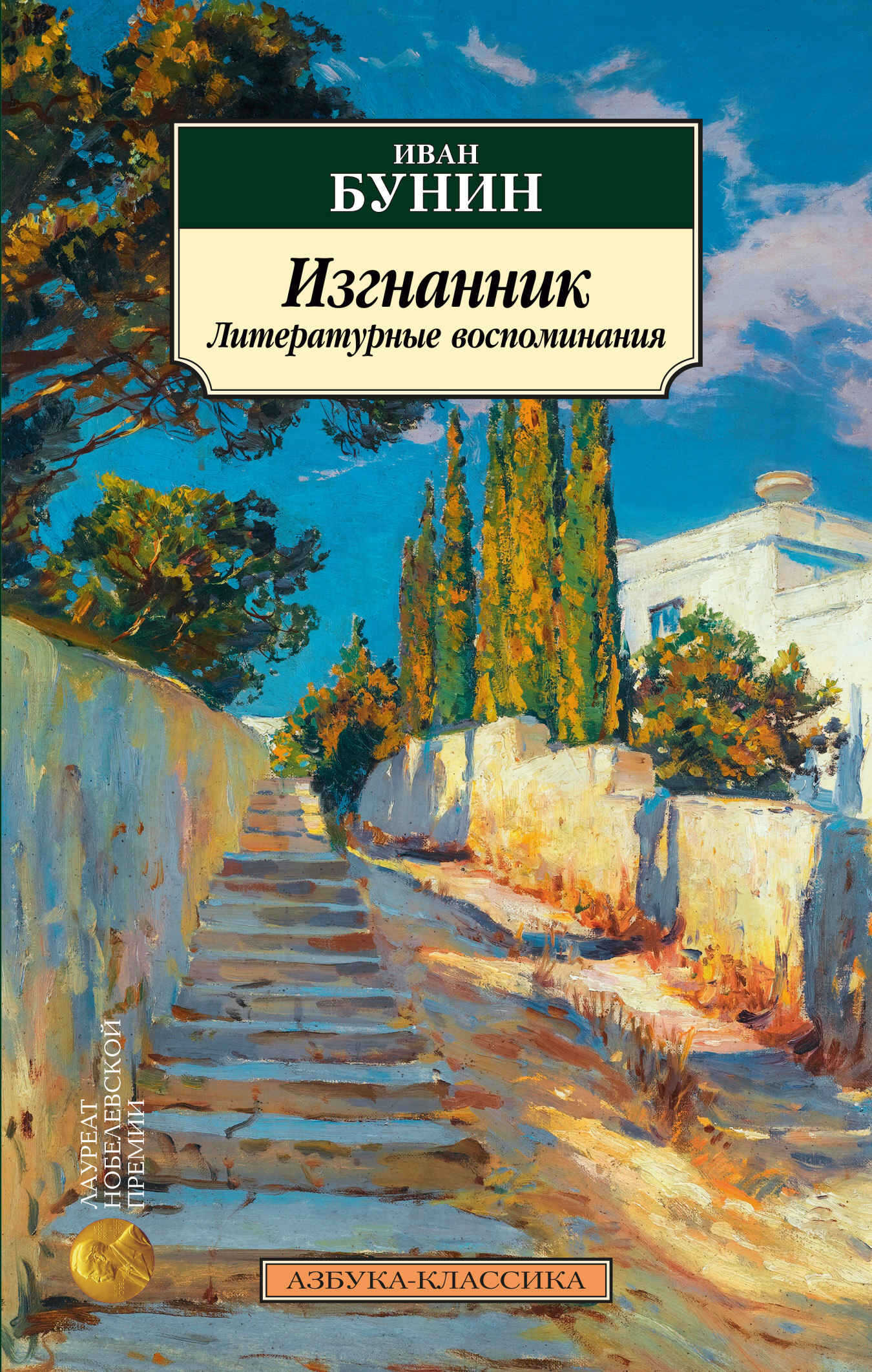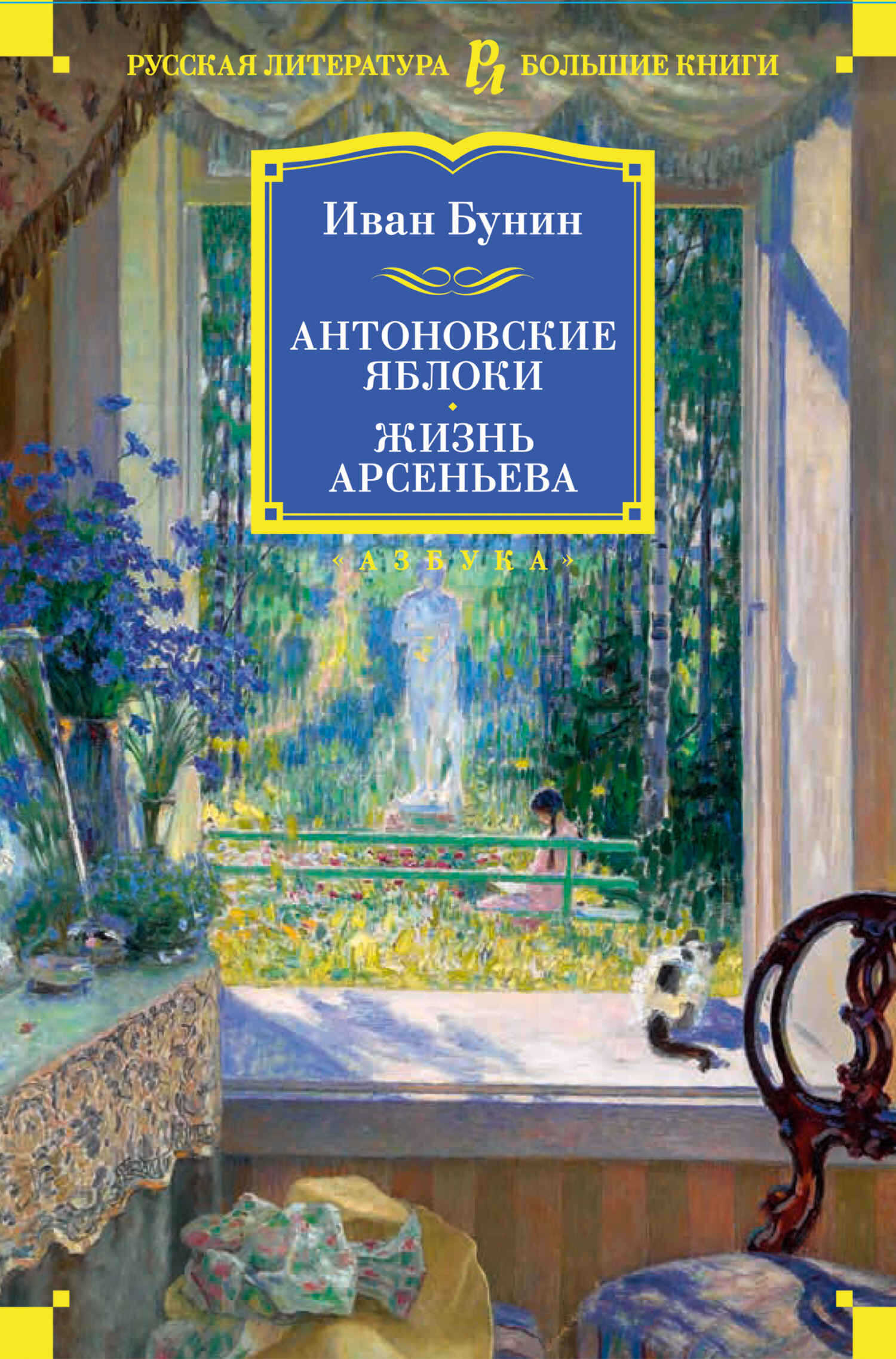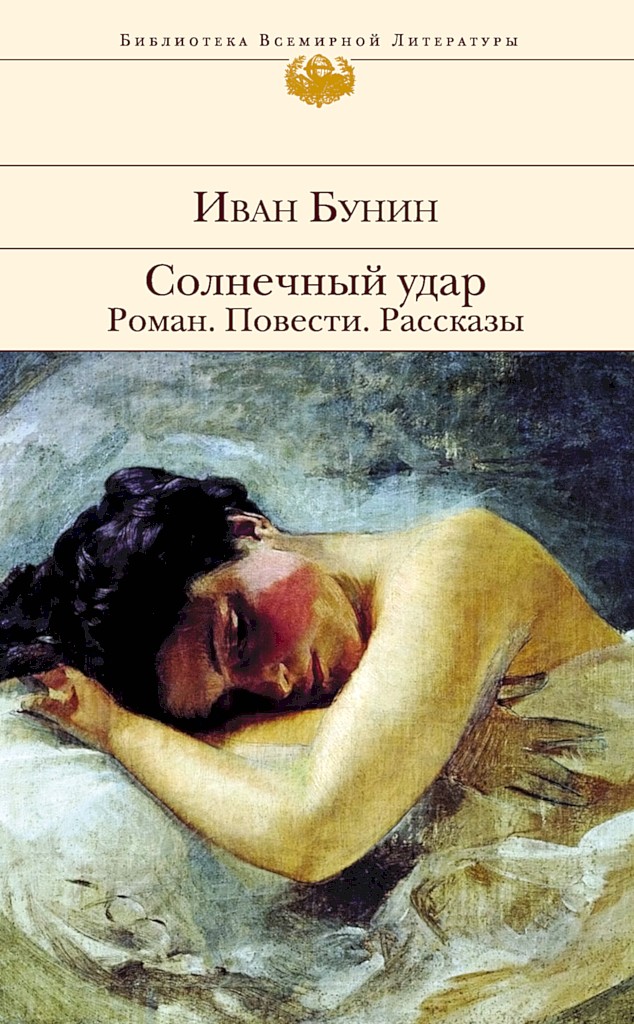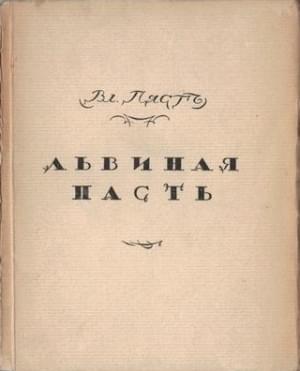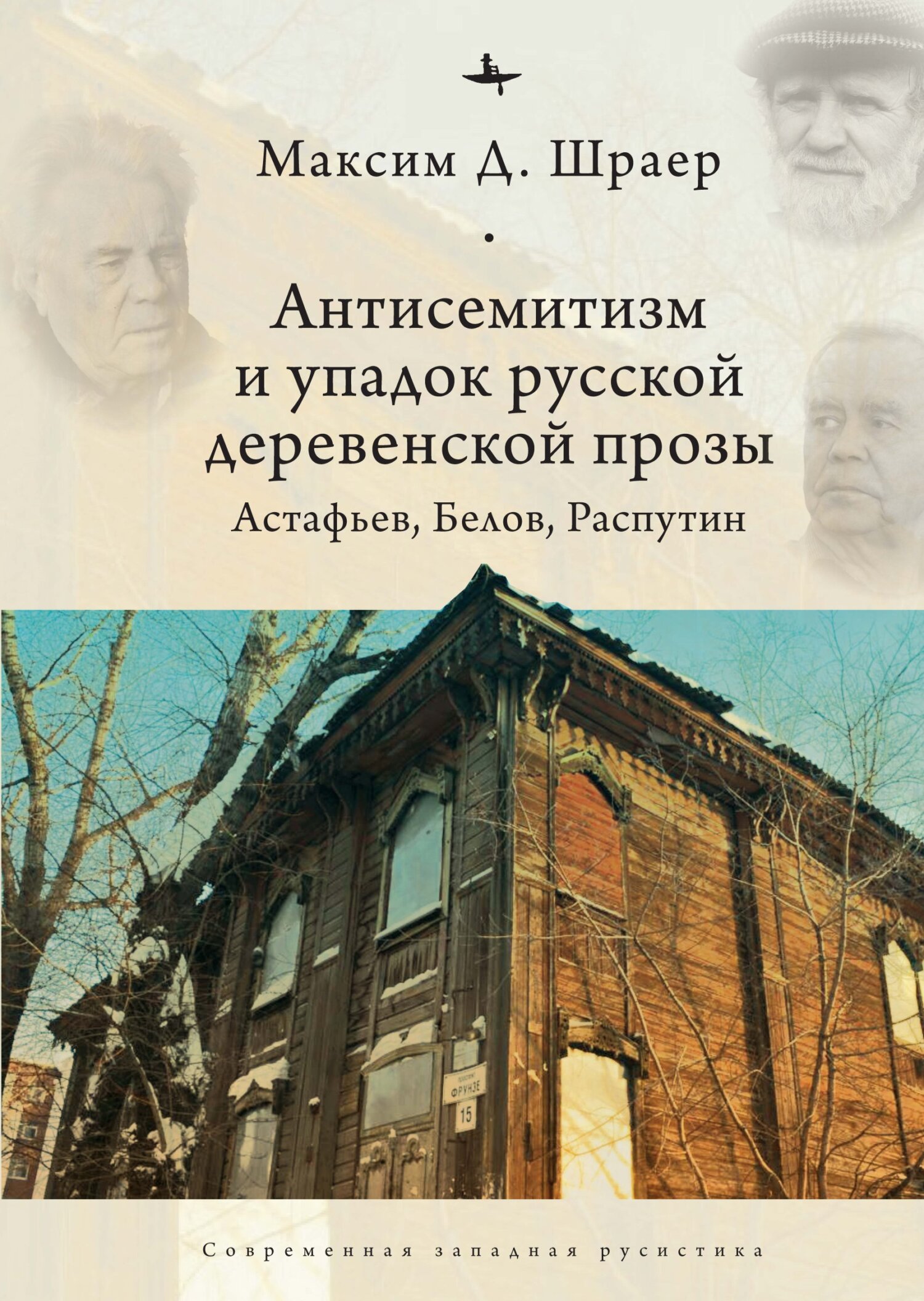Шрифт:
Закладка:
Иван Алексеевич Бунин – поэт и прозаик, первый из русских писателей, удостоенный Нобелевской премии (1933). Его произведения переведены на многие языки мира и навсегда вписаны в золотой фонд мировой литературы. Революция 1917 года заставила Бунина покинуть родину, но память о безвозвратно утраченной России, о людях, с которыми его сводила судьба, стала опорой для всего его дальнейшего творчества. Книга «Воспоминания» увидела свет в 1950 году в Париже, однако первые главы были написаны значительно раньше. Репин, Рахманинов, Чехов, Куприн, Шаляпин – здесь воссозданы портреты тех, с кем Бунин был хорошо знаком. В советской России книгу невозможно было прочесть целиком вплоть до Перестройки, даже в собраниях сочинений писателя из нее изымались фрагменты и главы, где Бунин резко отрицательно, язвительно отзывался о коллегах по цеху, оказавшихся на стороне большевиков: о Горьком, Маяковском, Блоке, Есенине, «Толстом Третьем». В настоящем издании эти пропуски восстановлены по прижизненному изданию. Воспоминания о Л. Н. Толстом, перед которым Бунин всю жизнь благоговел, переросли в эссе «Освобождение Толстого».