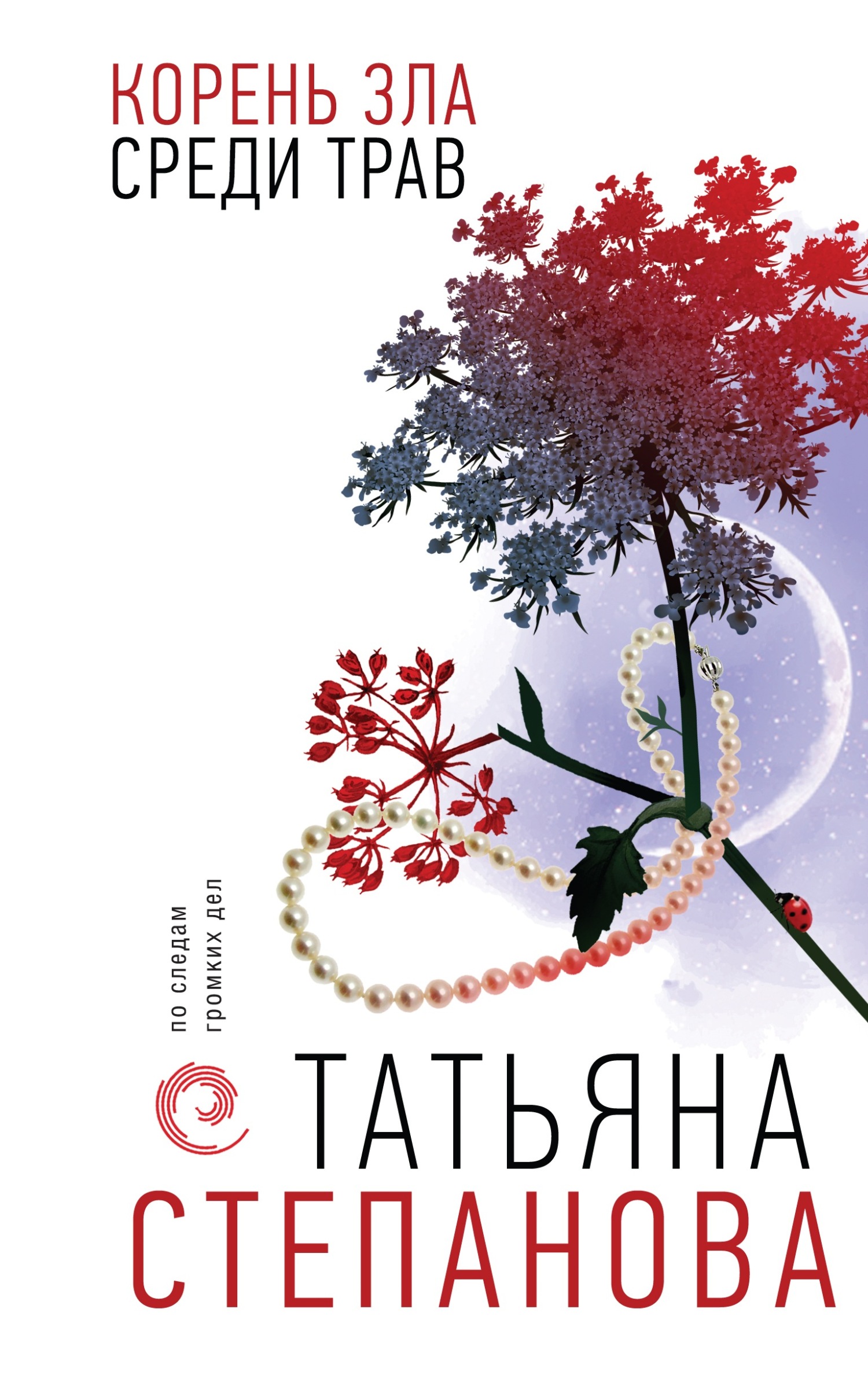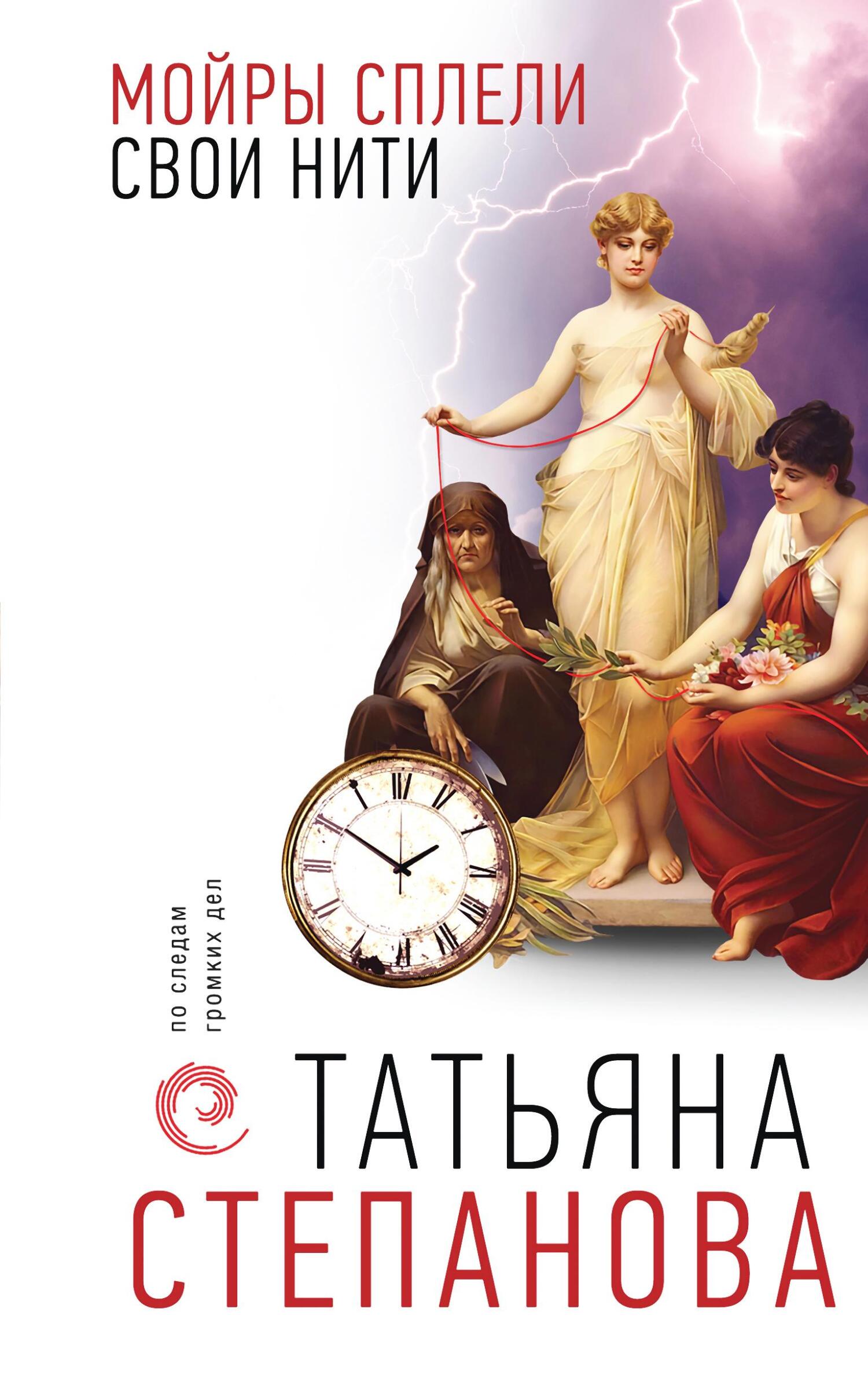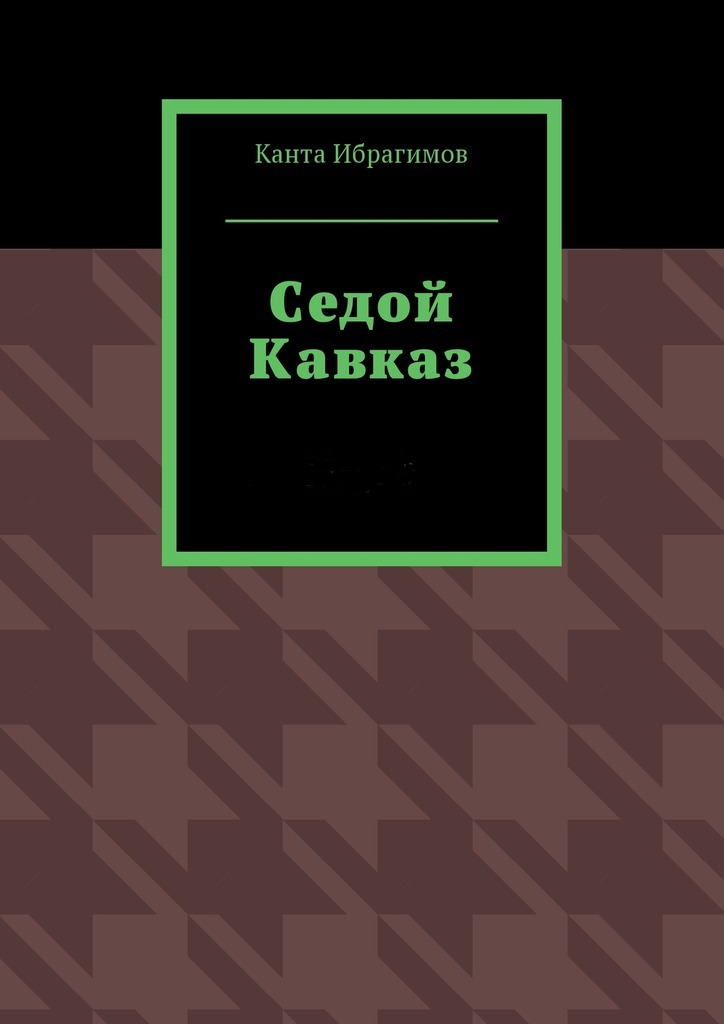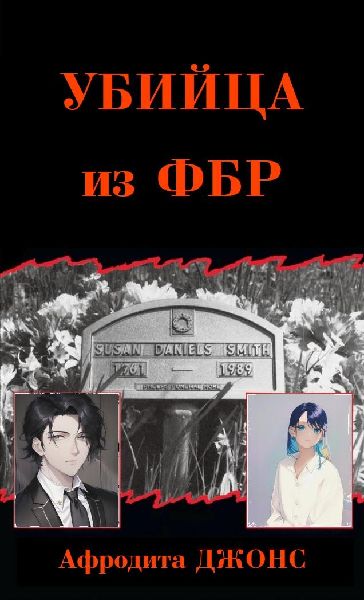Шрифт:
Закладка:
В далеком 1951 году профессор ботаники Кантемиров во время экспедиции на Домбай-Ульген был обвинен в жестоких убийствах трех женщин. С помощью влюбленной в него аспирантки Ниночки профессору удалось бежать в Москву, где с него сняли все подозрения…Казалось бы, прошло столько лет, та давняя история уже быльем поросла… Ан нет!В Подмосковье с разницей в несколько дней обнаружены тела задушенных женщин. Полковник Гущин и помогающие ему в расследовании Клавдий Мамонтов и Макар Псалтырников не сомневаются, что перед ними деяния серийного маньяка. Картина убийств совпадает, как и необычные детали, которые душитель оставляет на телах жертв. И все они указывают на то давнее дело. Наследники профессора Кантемирова не переняли его одержимость ботаникой, но одержимость иного рода, судя по всему, у них в крови…Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать новую детективно-мистическую головоломку в остросюжетном романе Татьяны Степановой «Корень зла среди трав»…Татьяна Степанова – подполковник полиции, бывший сотрудник Пресс-центра ГУВД Московской области и следователь, поэтому ее истории так правдоподобно и детально описывают расследования криминальных загадок.