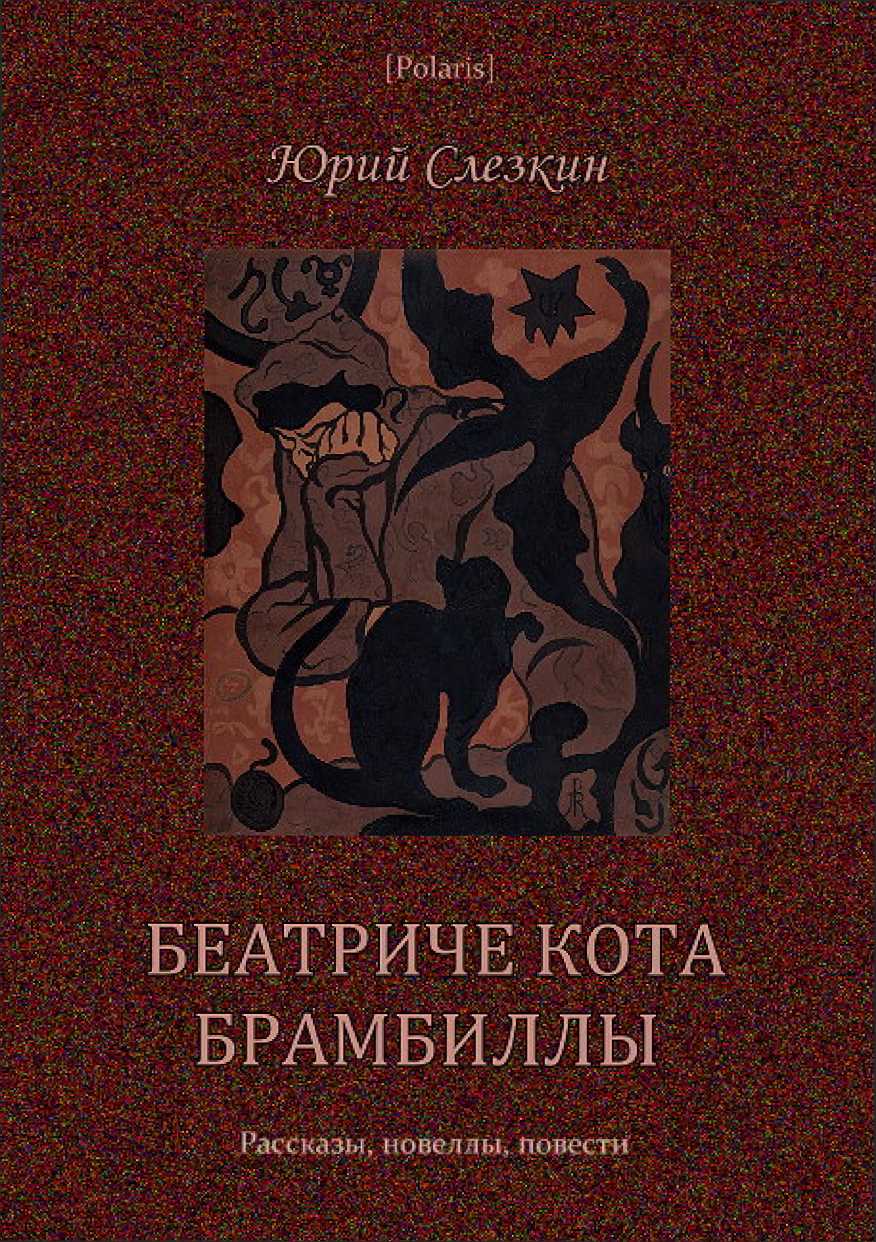Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Прозаика Юрия Слезкина (1885–1947) помнят сегодня в основном как одного из друзей-недругов М. А. Булгакова, однако в 19101920-х гг. он был весьма популярным и даже знаменитым беллетристом. Особое место в его наследии занимает авантюрный роман-мистификация «Кто смеется последним» (1925), созданный под именем вымышленного французского автора «Жоржа Делар-ма» (буквальный перевод имени и фамилии писателя на французский язык) — повествование о хитроумной афере на фоне сатирически изображенной буржуазной Франции. С 1928 г. роман переиздается впервые. Soviet Adventure Literature of 1920s, советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг., Ю. Слезкин
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Львович Слёзкин»: