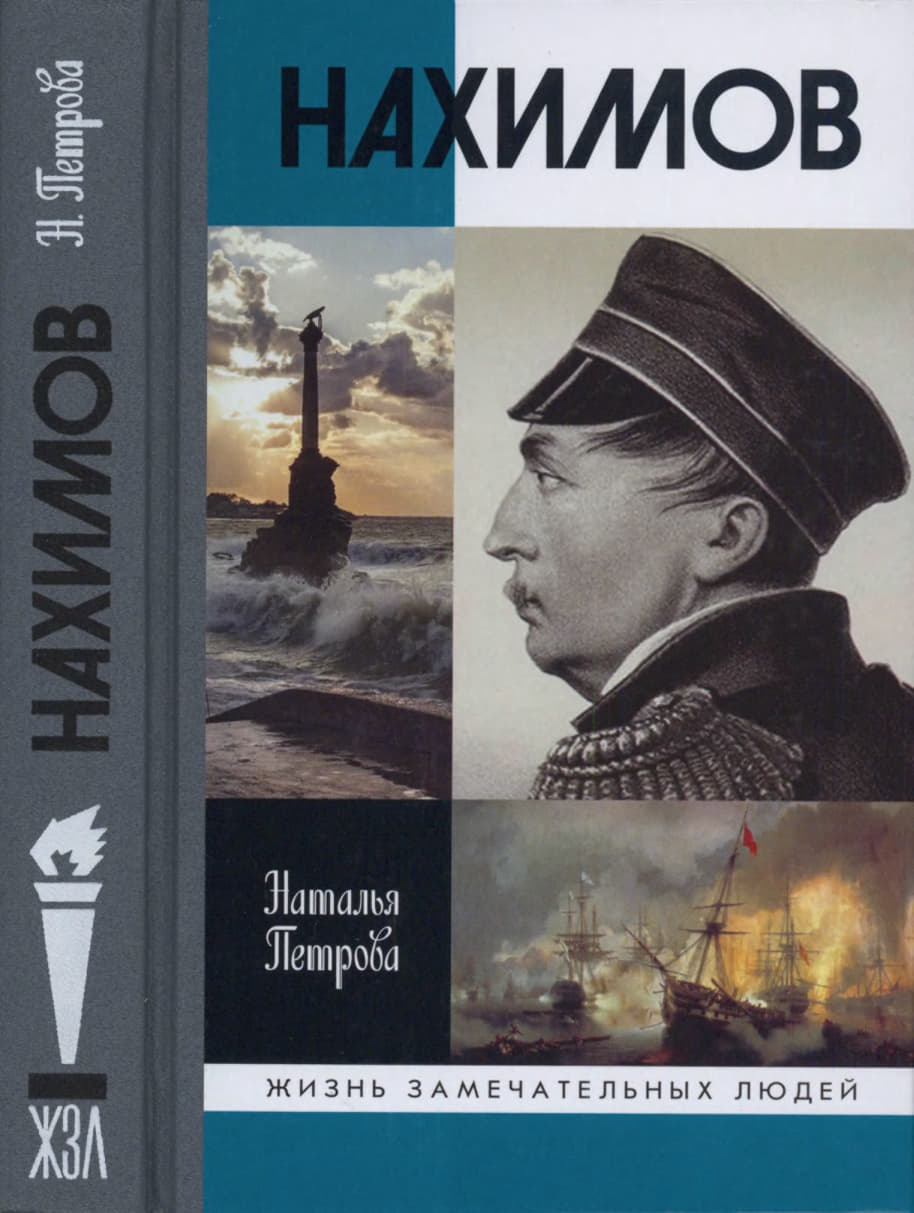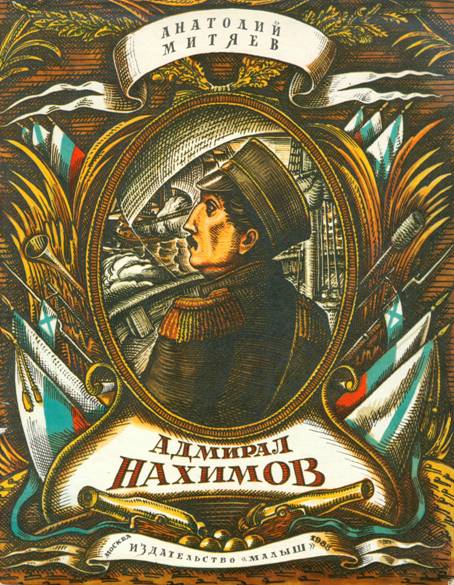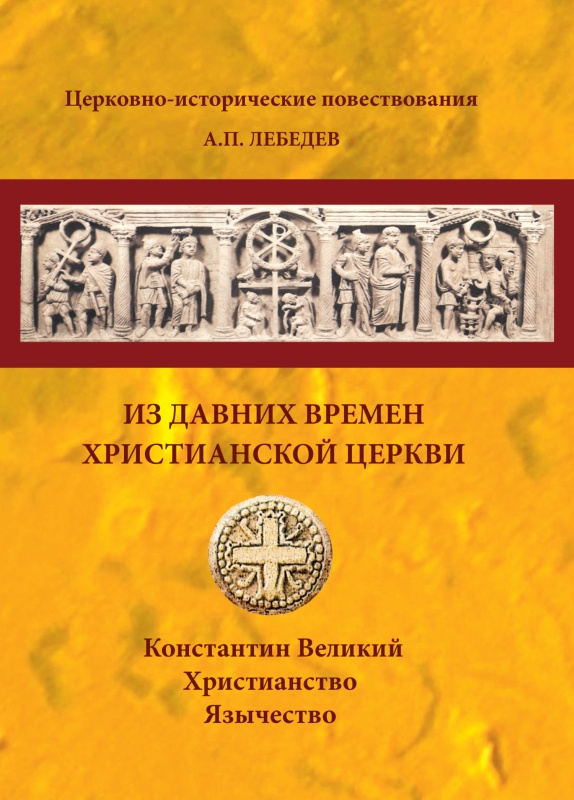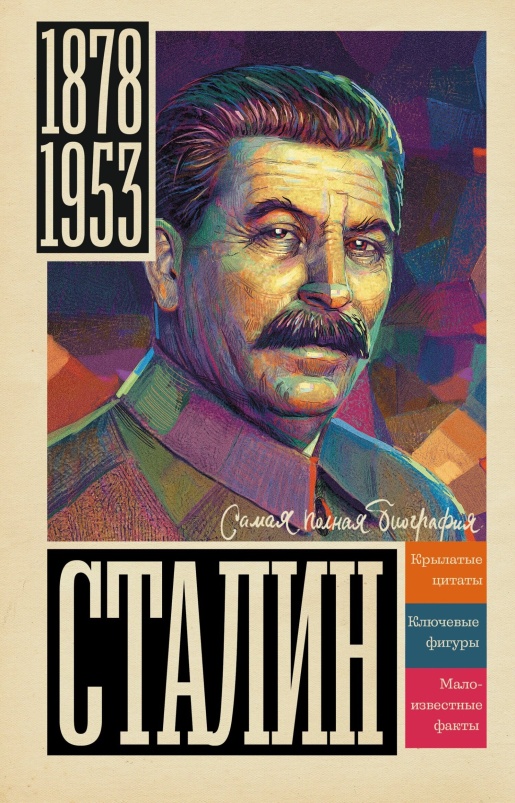Шрифт:
Закладка:
«Нахимов» – биографический роман Натальи Петровой, посвященный жизни и подвигам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова. Книга рассказывает о детстве и юности Нахимова, о его службе в Черноморском флоте, о его участии в войнах с Турцией и Кавказских горцах, о его гениальном руководстве обороны Севастополя во время Крымской войны. Автор показывает Нахимова не только как выдающегося морского командира, но и как человека с высокими нравственными принципами, любящего отца и друга, скромного и доброго человека. Книга написана на основе архивных документов, писем и воспоминаний современников Нахимова. Она содержит много интересных фактов и подробностей о его личной и служебной жизни, о его отношениях с другими знаменитыми деятелями того времени, такими как Николай I, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Петр Нестеров и другие. Книга иллюстрирована редкими фотографиями и картами.
«Нахимов» – книга для тех, кто интересуется историей России, военно-морским флотом, личностью адмирала Нахимова. Это книга для тех, кто хочет узнать больше о том, как жил и сражался один из самых почитаемых героев русской истории.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Желаю вам приятного чтения! 😊