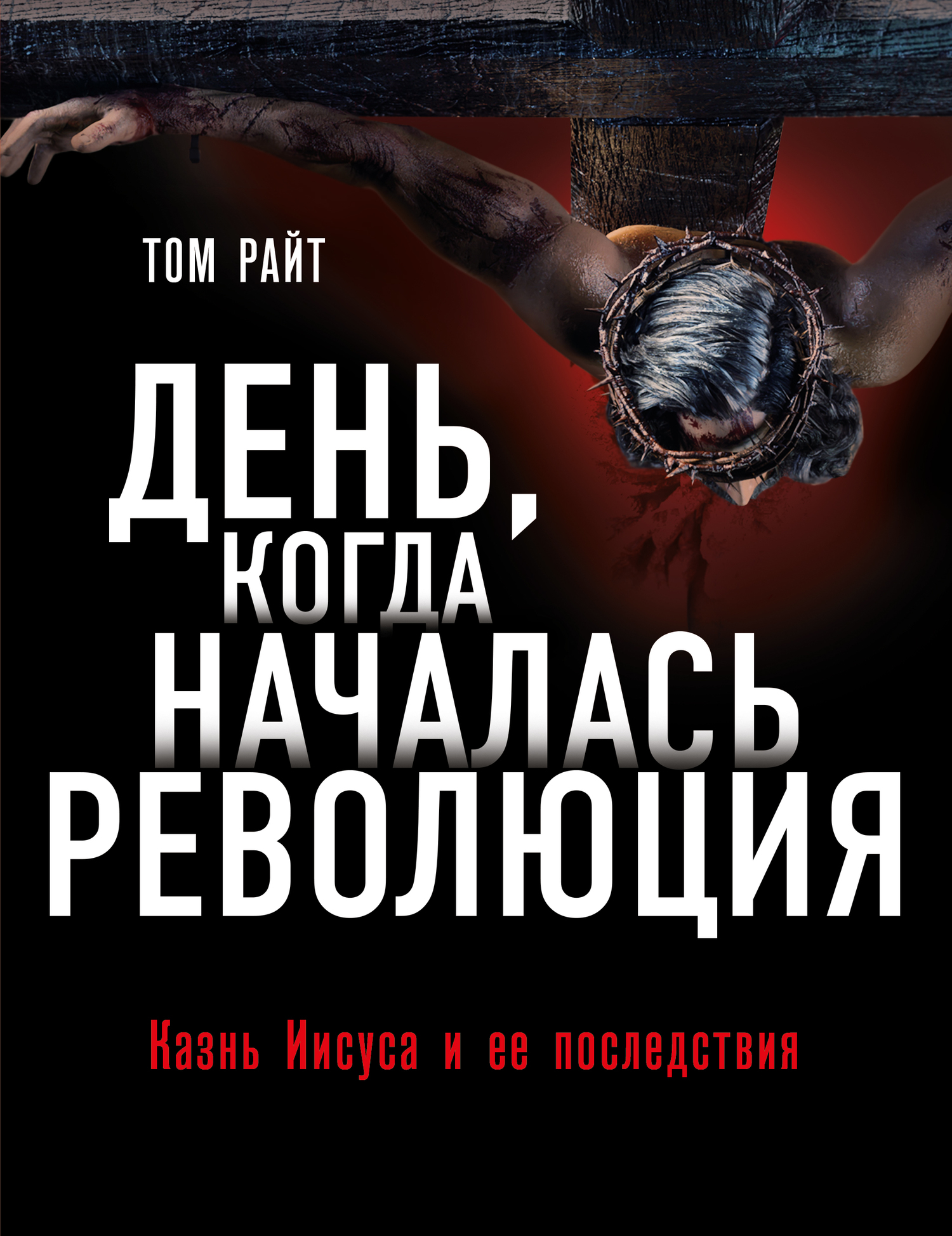Шрифт:
Закладка:
«Разговоры с Гете» И.-П. Эккермана – один из важнейших памятников, сохранивший для нас как заветные мысли великого поэта, так и живой дух эпохи, стиль тогдашнего общения и дискуссий. Гёте предстает как суровый критик, хозяин властных суждений об искусстве, и одновременно тонкий ценитель далеких от его творческих задач явлений. «Разговоры» необходимы для всех, желающих разобраться, как возникали современные идеи всемирной литературы, всеобщей истории искусства, искусства как формы знания, а также современного искусствоведения и критики как знания о человеке. Принадлежа сразу нескольким эпохам мирового искусства и возвышаясь над ними, Гёте дает пример выверенных и развернутых суждений даже о незаметных сперва явлениях. В этом издании мы даем избранные разговоры, составил книгу и снабдил вступительной статьей профессор РГГУ Александр Марков.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.