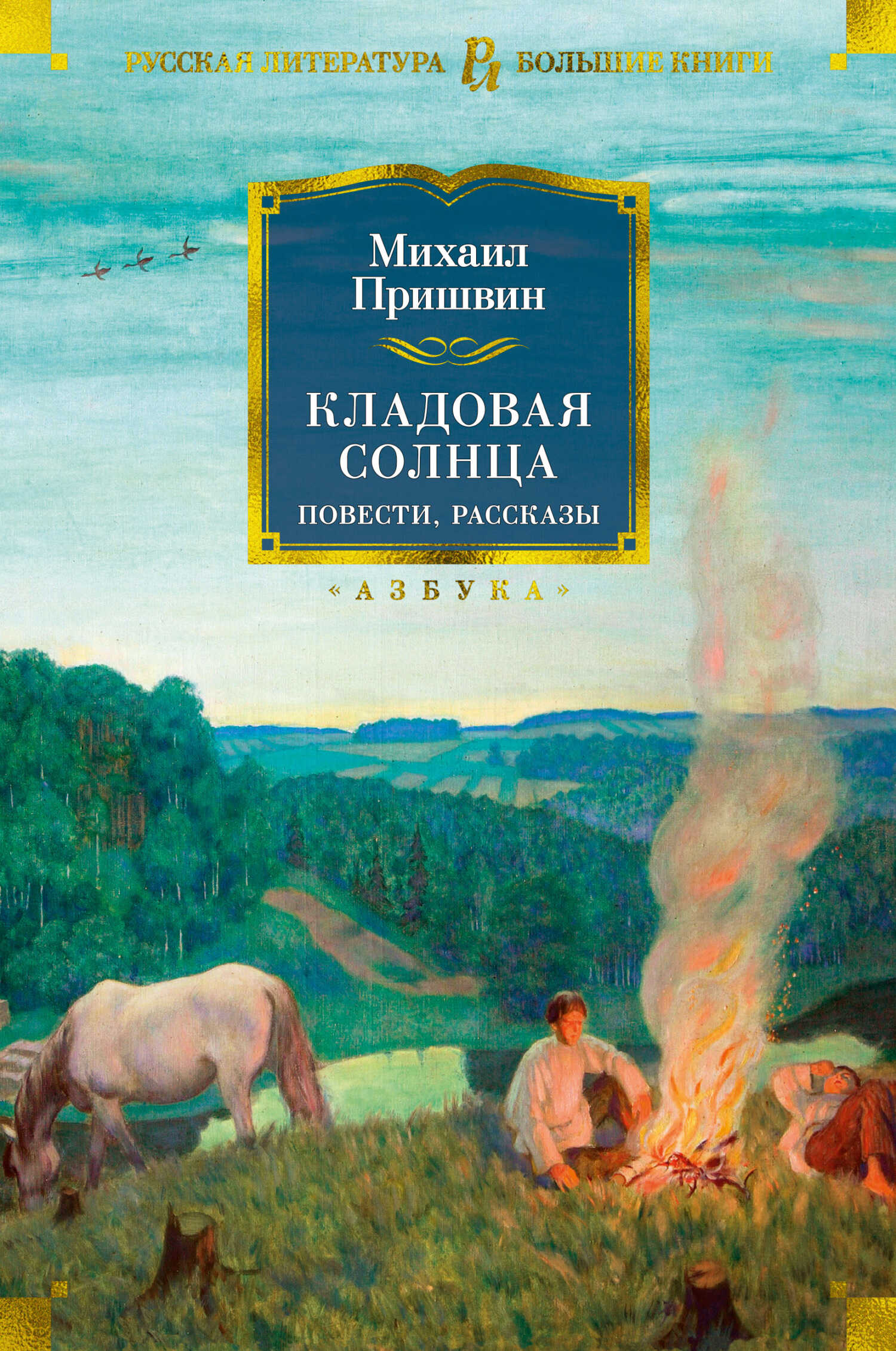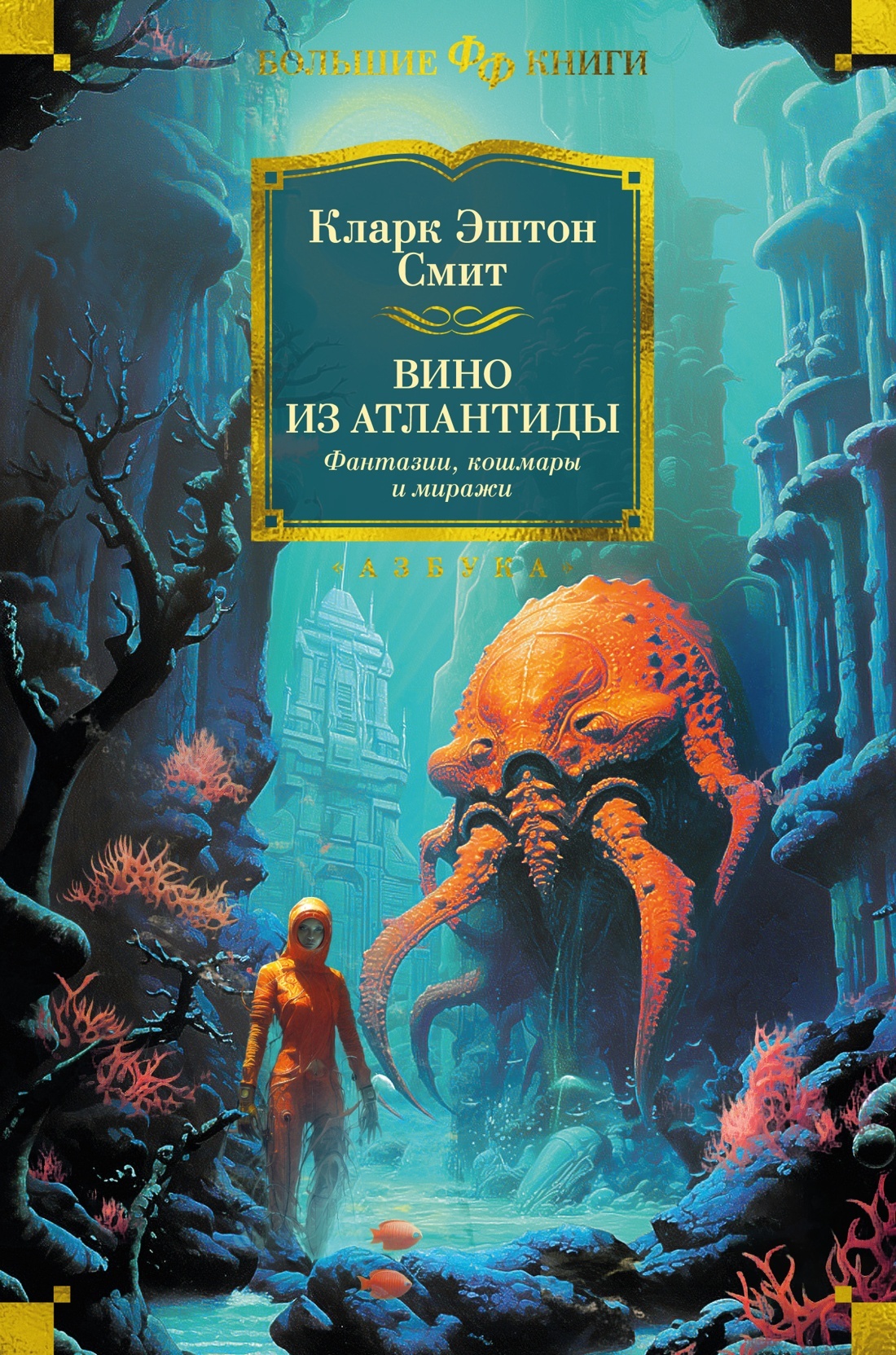Шрифт:
Закладка:
Михаил Михайлович Пришвин вошел в историю русской литературы как «певец природы». Его произведения знакомы нам с самого детства, но их удивительная чистота и мудрость привлекают читателей всех возрастов. Пришвин сумел не только обогатить русскую литературу проникновенными описаниями русской природы, которую любил всем сердцем, но и помочь своим читателям увидеть в знакомом и привычном великую тайну Вселенной, почувствовать единство всего живого на земле. В основе его произведений лежит глубокая, подлинно христианская идея «согласования творчества человеческого сознания с творчеством бытия».В настоящее издание вошли такие известные произведения М. М. Пришвина, как «Лесная капель», «Кладовая солнца», «Глаза земли», а также повести и рассказы.