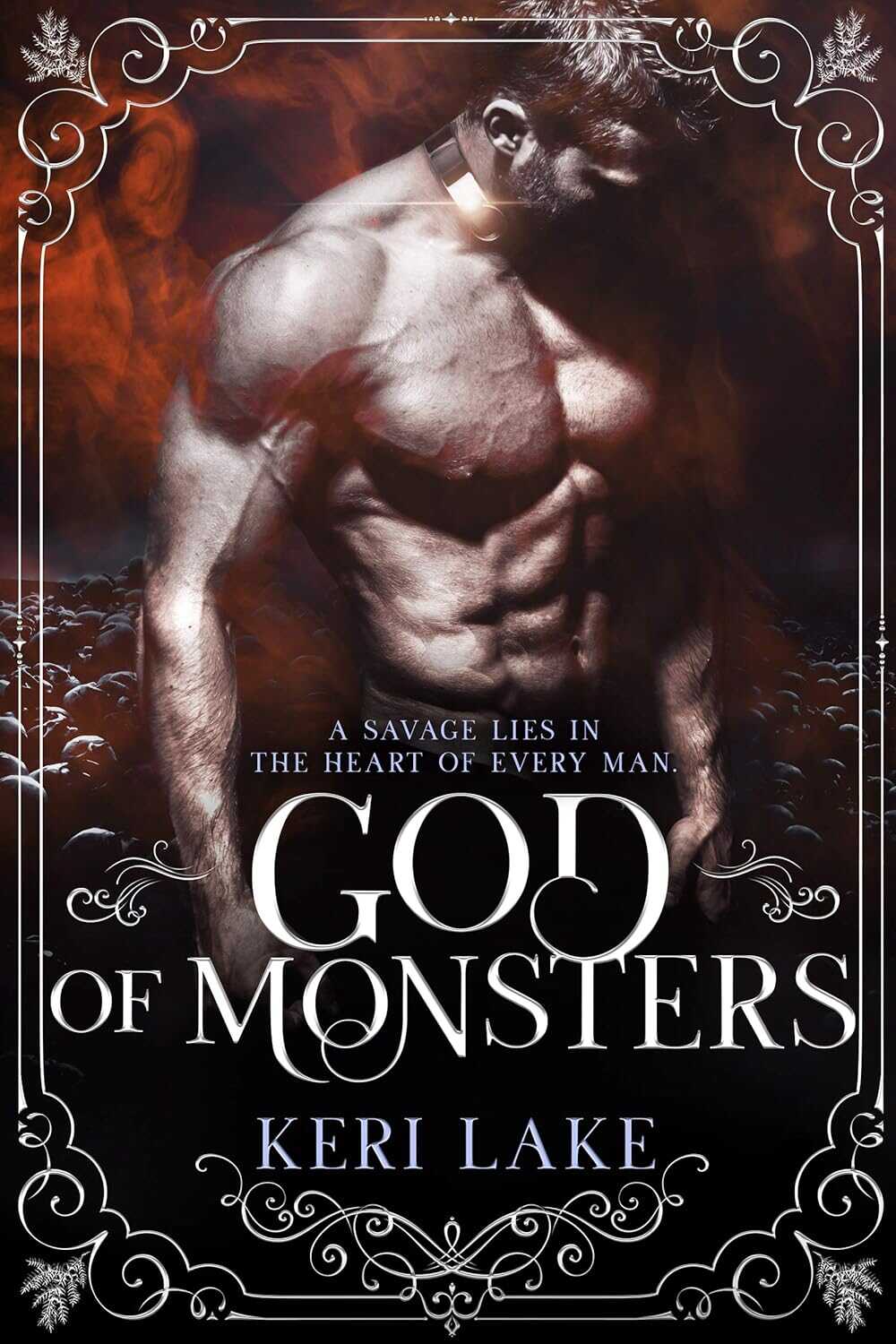Шрифт:
Закладка:
Я шепотом молюсь Богу:
— Помоги мне, отец. Пожалуйста.
Я так крепко цепляюсь за крест, что даже не замечаю, куда укусила собственную руку, пока на языке не появляется медный привкус крови.
Поначалу я даже не замечаю, что удары прекратились.
Или что защитное оцепенение, которое я чувствовала несколько секунд назад, уступило место более сильной боли.
Звуки бьющейся плоти — единственное предупреждение, прежде чем теплая жидкость ударит мне в спину, стекая по моей сырой и воспаленной коже.
Звук кульминации Ремуса — это то, что окончательно ломает меня, и я рыдаю.
Глава 1 4
Мои пальцы вцепляются в фиолетовые простыни, на которых я лежу на животе, отказываясь открывать глаза навстречу солнечному лучу, падающему на мое лицо. Несмотря на то, какой мазью Агата намазала мою кожу, раны все еще болят и остаются чувствительными к тонкой ткани моей ночной рубашки, которую дала мне Агата, которая царапала их всю ночь.
Со стоном я поднимаюсь с матраса, разрываясь, когда раны ощетиниваются новой агонией, когда они растягиваются на моих мышцах, после того как мне позволили отдохнуть всю ночь. Стакан воды, выпитый накануне вечером, стоит на тумбочке рядом со мной, и я выпиваю жидкость, которая практически с шипением попадает мне в горло.
Когда мысли о прошлой ночи проскальзывают в моей голове, я запускаю пальцы в волосы, вздрагивая от резкой боли в коже головы, когда сжимаю слишком сильно. Я должна оставаться сосредоточенной.
Подумай об Уилле.
О побеге.
О возвращении домой.
В другом конце комнаты на полу лежит стопка одежды и пара ботинок, похожих на ботинки военного образца, которые, как я предполагаю, предоставила Лизбет. Я поднимаюсь на ноги и прохожу через камеру, чтобы одеться, вздрагивая, когда снимаю ночную рубашку и надеваю на плечи легкую хлопчатобумажную рубашку вместо нее. Надевание штанов занимает исключительно больше времени, чем обычно, несмотря на их легкий хлопковый материал, который напоминает мне что-то, что носили бы заключенные.
Полагаю, это подходит для меня.
Ботинки немного больше, но не настолько, чтобы скользить при тугой шнуровке.
Я глубоко выдыхаю, пытаясь не обращать внимания на раздражающее царапанье по порезам, выхожу из камеры и обнаруживаю, что там остался поднос с едой. Маленький апельсин, что-то похожее на кашеобразную овсянку в миске и чашку кофе. Два маленьких кусочка хлеба неправильной формы выглядят самыми аппетитными, и я тянусь за одним, морщась от пронзающей спину боли.
Дымный аромат в сочетании со слегка пригоревшим вкусом хлеба на моем языке подтверждает, что это пепельный хлеб. Несмотря на то, что у цыган дома в жилых помещениях были печи, некоторые все еще настаивали на приготовлении хлеба на открытом огне. Я отрываю маленький кусочек от одного, а другой засовываю в карман брюк для Уилла, прежде чем проглотить остывший кофе. Несмотря на все удобства, которые у нас были, даже я не трачу еду впустую, поэтому я как можно быстрее опустошаю миску с кашей, с удивлением обнаруживая, что у нее сладкий вкус, как у меда.
Оставив поднос с пустой посудой там, где он есть, я отправляюсь снова повидаться с Уиллом.
Охранник, которого я теперь знаю как Тома, встречает меня у двери, которая, как я определила, является одиночными камерами. Место, куда заключенных первоначально отправляли в наказание, когда крошечные тюремные блоки не были
достаточно наказания.
— Я здесь, чтобы осмотреть раны Титуса, — говорю я ему, что является правдой лишь отчасти.
Кивком он пропускает меня с полуулыбкой.
Титус, как и прежде, прислонился к стене и не потрудился пошевелить ни единым мускулом, когда Том отстегивает замок и открывает дверь. Как только охранник уходит, я бросаю быстрый взгляд на Уилла и нахожу его лежащим на спине, одна рука подложена под голову, взгляд устремлен в потолок.
Все еще здесь. Все еще жив.
Чем скорее я проверю Титуса, тем скорее смогу поговорить с Уиллом, при условии, что Том позволит это.
С той же осторожностью, что и раньше, я направляюсь в камеру и опускаюсь на колени рядом с Титусом, вздрагивая от ожога на заднице, и присматриваюсь к длине цепи, которая дала бы ему достаточно досягаемости для атаки. Каким бы разбитым я сейчас себя ни чувствовала, у меня даже не хватило бы сил сопротивляться. Факт, который, должно быть, написан на моем лице, когда его бровь вздрагивает, когда он переводит взгляд на мою разбитую челюсть, куда меня ударил охранник.
— Я здесь только для того, чтобы проверить твои раны.
К его чести, он не спрашивает о синяке, поскольку у меня нет намерений говорить о вчерашнем вечере, но его грудь поднимается и опускается в легком темпе, что я воспринимаю как приглашение приступить к работе, отклеивая марлевую повязку, которую я перевязала накануне.
Воспаленные края раны затихли, кожа зажила, что, как я знаю по опыту, обычно занимает гораздо больше времени.
Нахмурившись, я провожу большим пальцем по стянутым швам, прекрасно понимая, что мне не следовало их трогать, но я ничего не могу с собой поделать.
— Невозможно. Это должно было занять не менее недели. Может быть, больше.
— Должно быть, сильный антисептик.
Нет, даже мощный антибиотик не привел бы к такому уровню восстановления.
— Или ты не совсем тот, кем кажешься.
Он откидывает голову к стене, его глаза медового цвета смотрят на меня, и на мгновение я почти чувствую себя поглощенной. Может быть, потому, что он так редко признает что-то большее, чем то, что находится прямо у него под носом, но мой желудок трепещет от внезапного внимания.
— И кем я кажусь?
Возвращение повязки на место — это повод отвести взгляд, и я прочищаю горло, переходя к следующей ране.
— Ну, ты кажешься довольно подавленным, почти кататоническим, для человека, который отрывает головы злобным существам.
— Если бы я отрывал головы всем, кого встречал, я бы не был благословлен вашим разговором сейчас, не так ли? Трудно сказать, то ли воздух сгущается от раздражения, то ли от веселья, поскольку эти двое, кажется, сливаются с ним.
— Это заноза в заднице, счищающая кровь с рук.
Мне хочется посмеяться над этим, но я не могу сказать, говорит ли он серьезно. Возможно, все, что стоит между мной, полностью невредимым, и мной, с моей головой, катящейся по полу, не более чем неудобство.
— Что ж, слава богу за это, — бормочу я, осматривая еще одну полностью зажившую рану.
— Ты не признаешь Бога за свои благословения? Дочь. Он выплевывает последнее слово, как будто оно вызывает неприятный привкус во рту.
Отводя от него взгляд, я замечаю ведро с