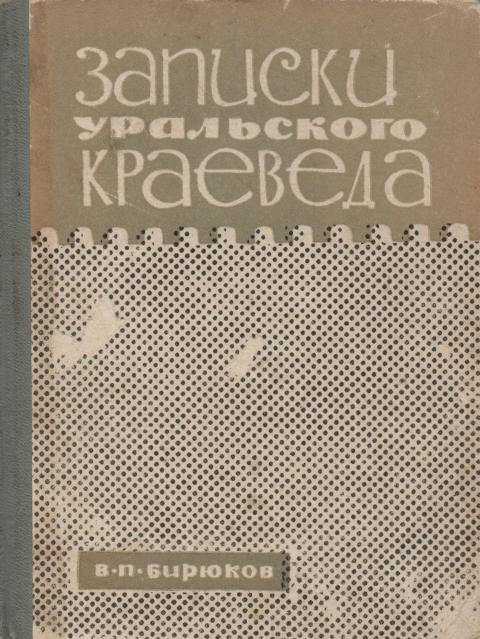Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Урало-Сибирский Даль» — так с полным правом мы можем назвать Владимира Павловича Бирюкова. Необозримы его труды в собирании и глубинном изучении родного русского слова, его исторических судеб. Человек многосторонних познаний — языковед-русист, историк, археолог, этнограф, исследователь и собиратель устного народного творчества Урала, Зауралья и Западной Сибири, составитель непревзойденного, хотя и оставшегося в «карточках», «Словаря народного языка на Урале» — В. П. Бирюков в подлинном смысле подвижник русской культуры, подобный Владимиру Далю, человек единой и высокой жизненной цели!(Из предисловия)
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Павлович Бирюков»: