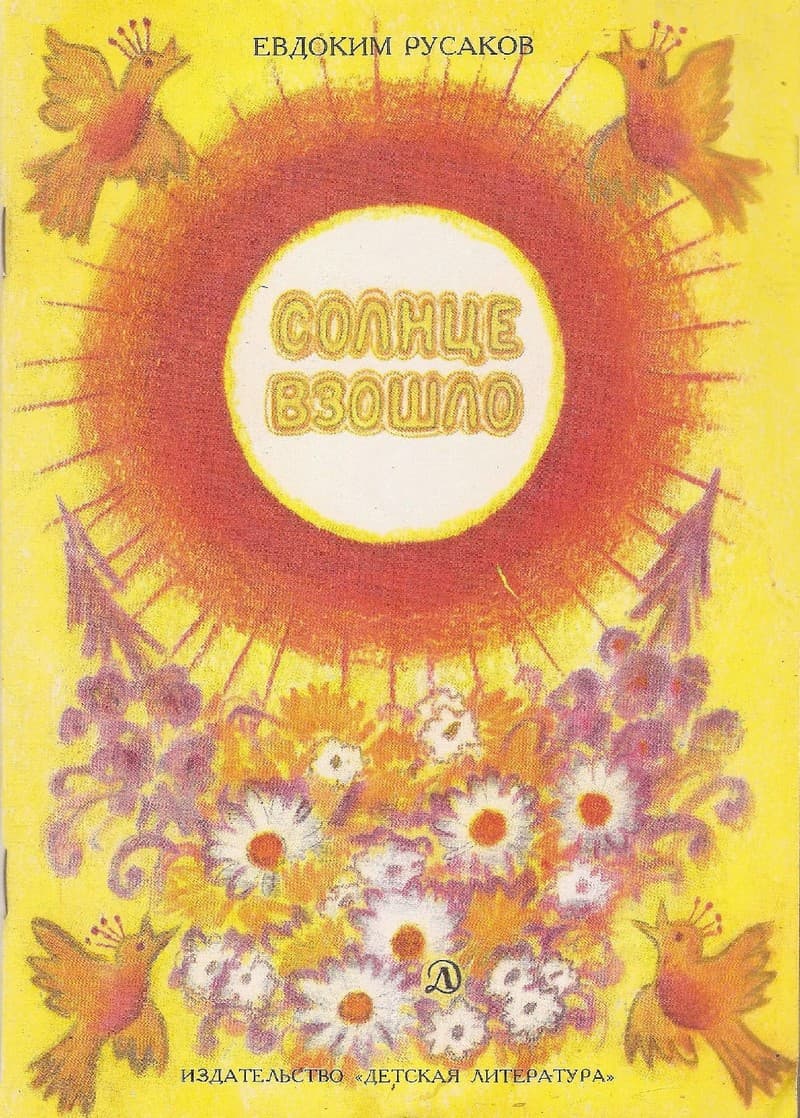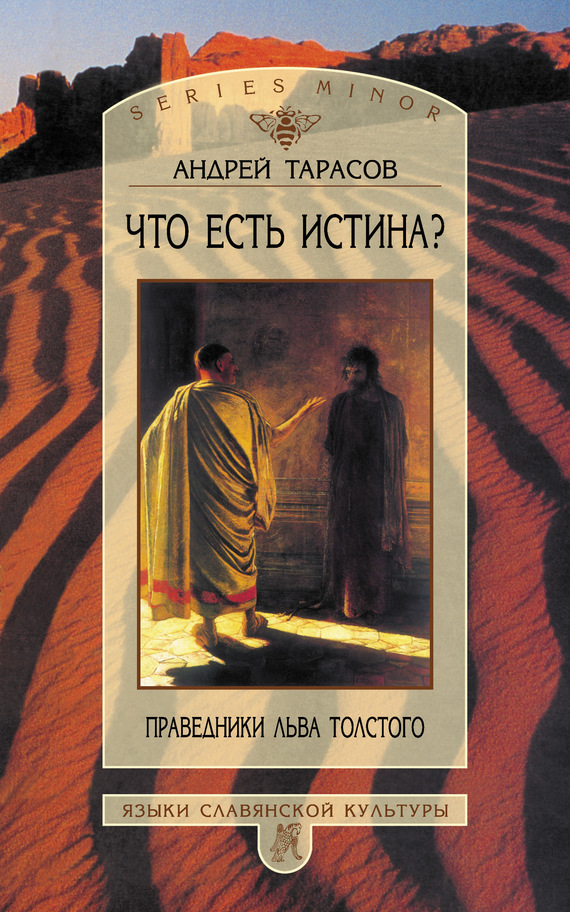Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу «Песня первой любви» вошли лучшие рассказы Евгения Попова. Какие-то из них давно любимы читателями, какие-то публикуются впервые — все дополнены оригинальными авторскими комментариями, где Евгений Попов расшифровывает «некоторые фразы, нуждающиеся в пояснении в начале XXI века, и слова сибирского русского», на котором изъясняются его персонажи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Анатольевич Попов»: