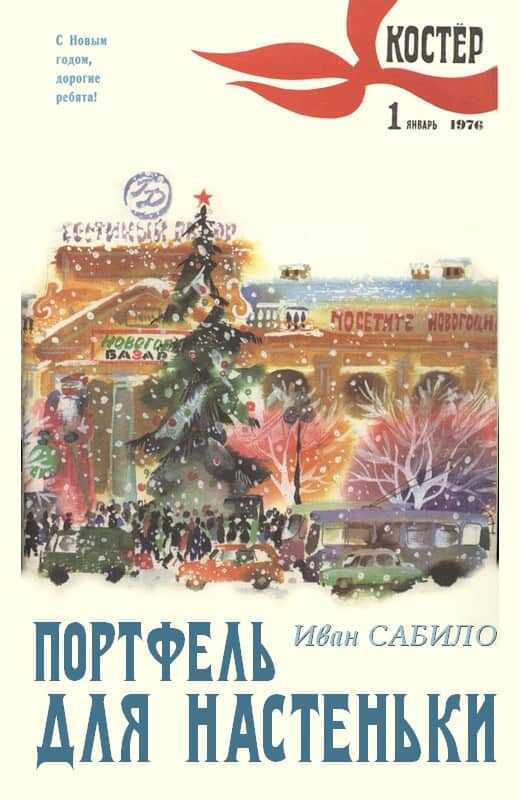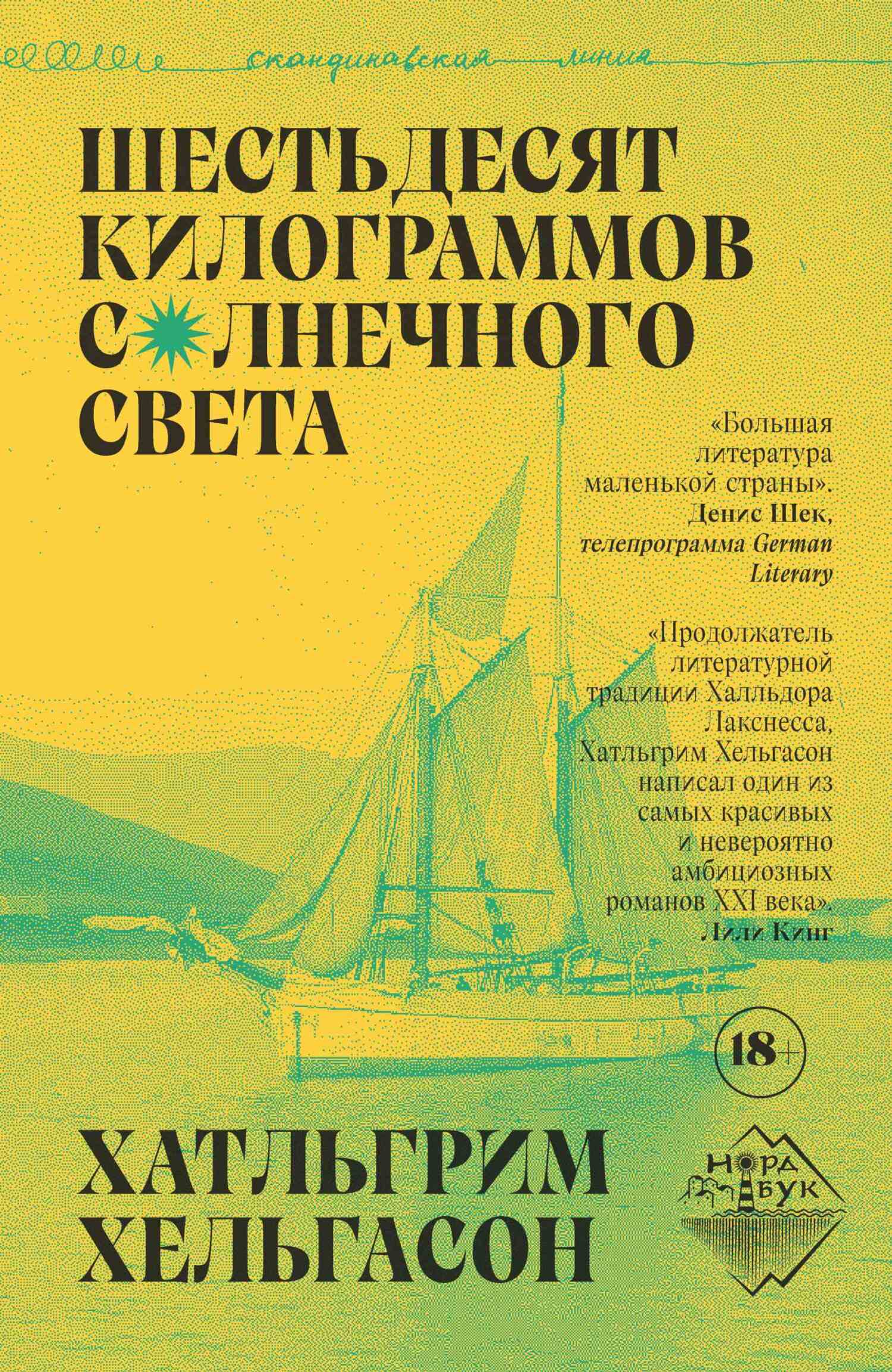Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«…Разве я мог предположить, что когда-нибудь она даст писать сочинение на тему: «Как я провел вчерашний день?». Не сочинение, а объяснительная записка, из которой всем станет ясно, как и почему класс ушел с урока немецкого языка. Ведь не все же догадаются об этом не писать. А найдутся и такие, кто специально только об этом и напишет. И самое главное — никто не виноват, таково задание. Не выполнил — получи двойку…»
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Иванович Сабило»: