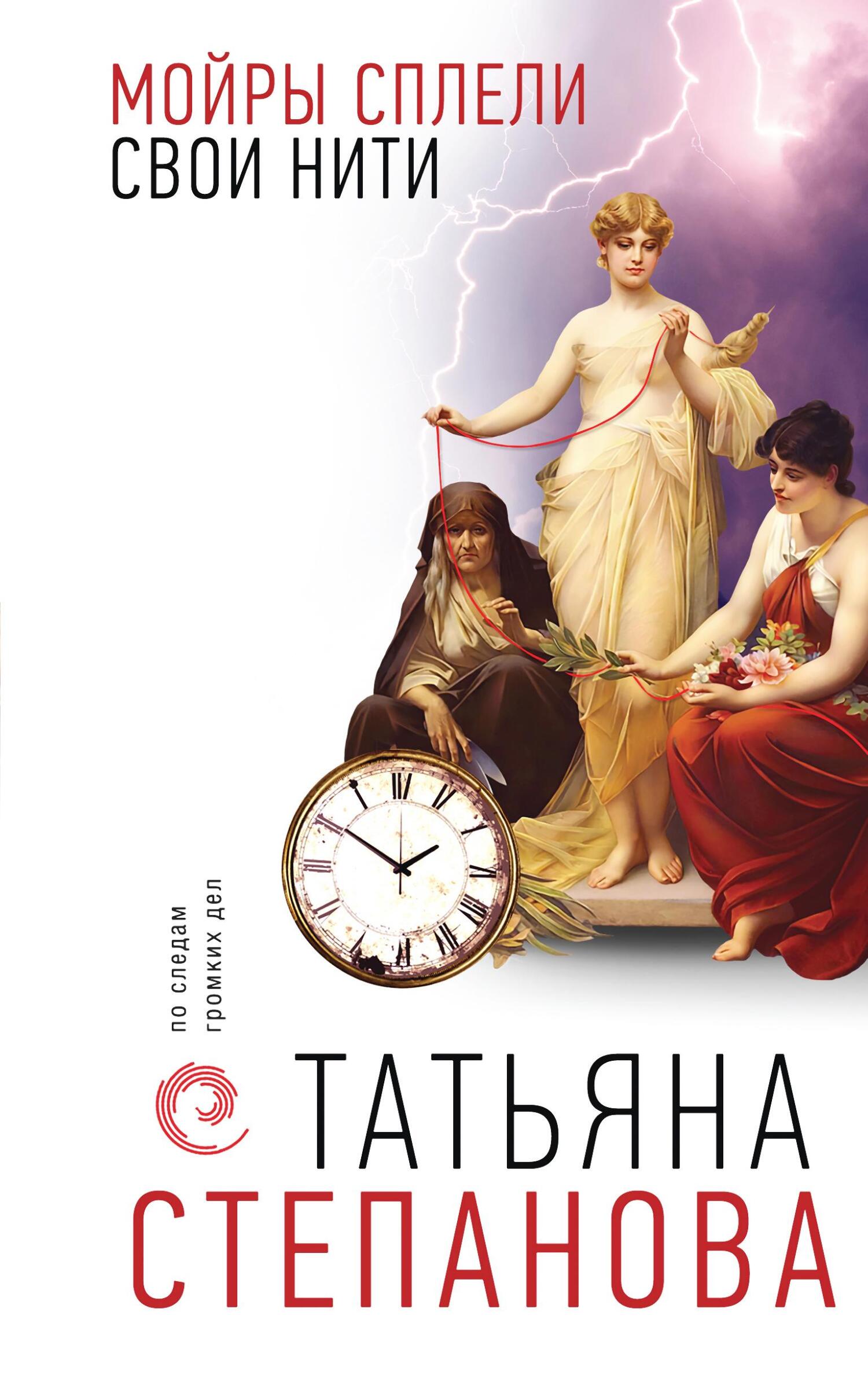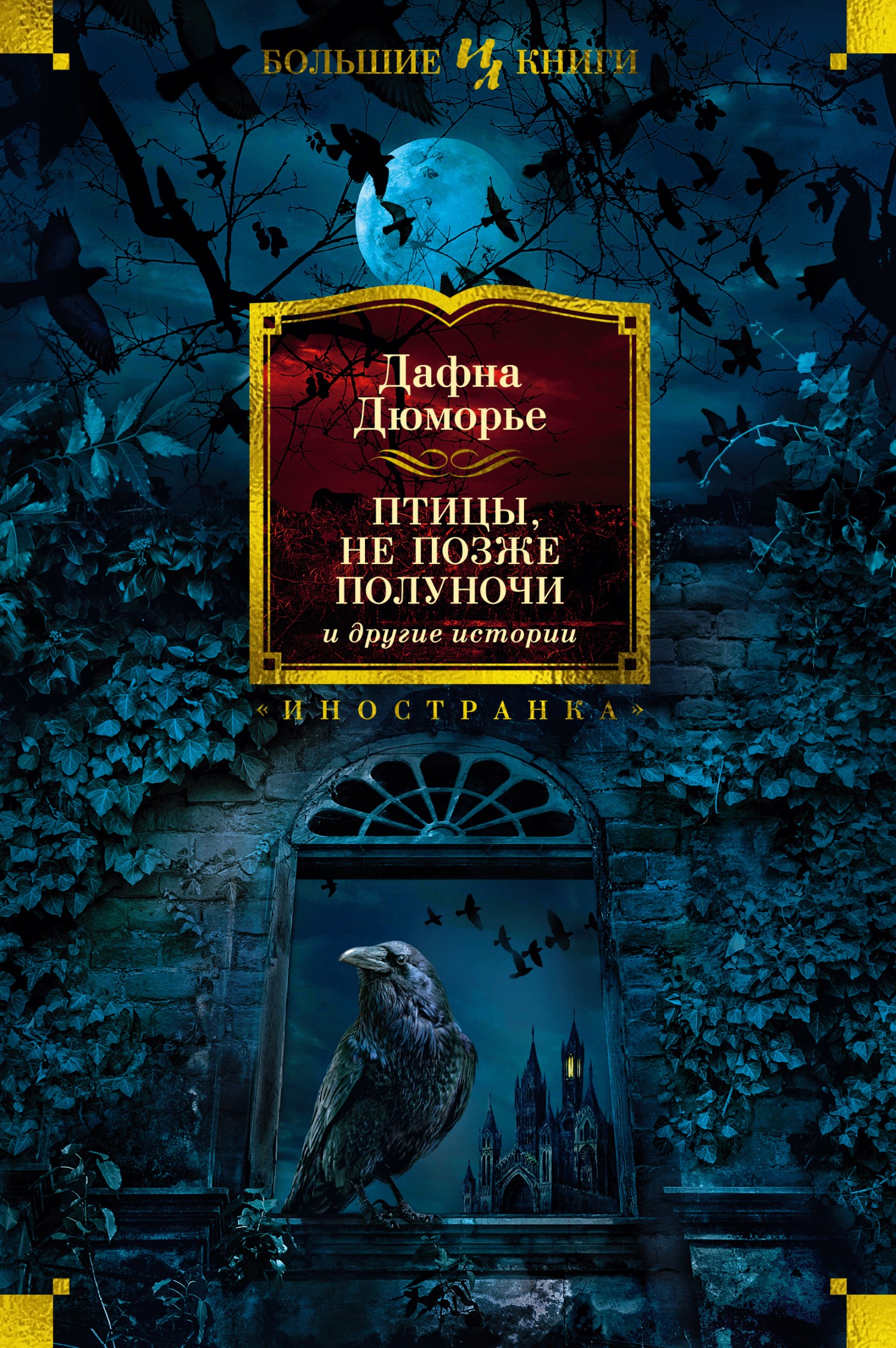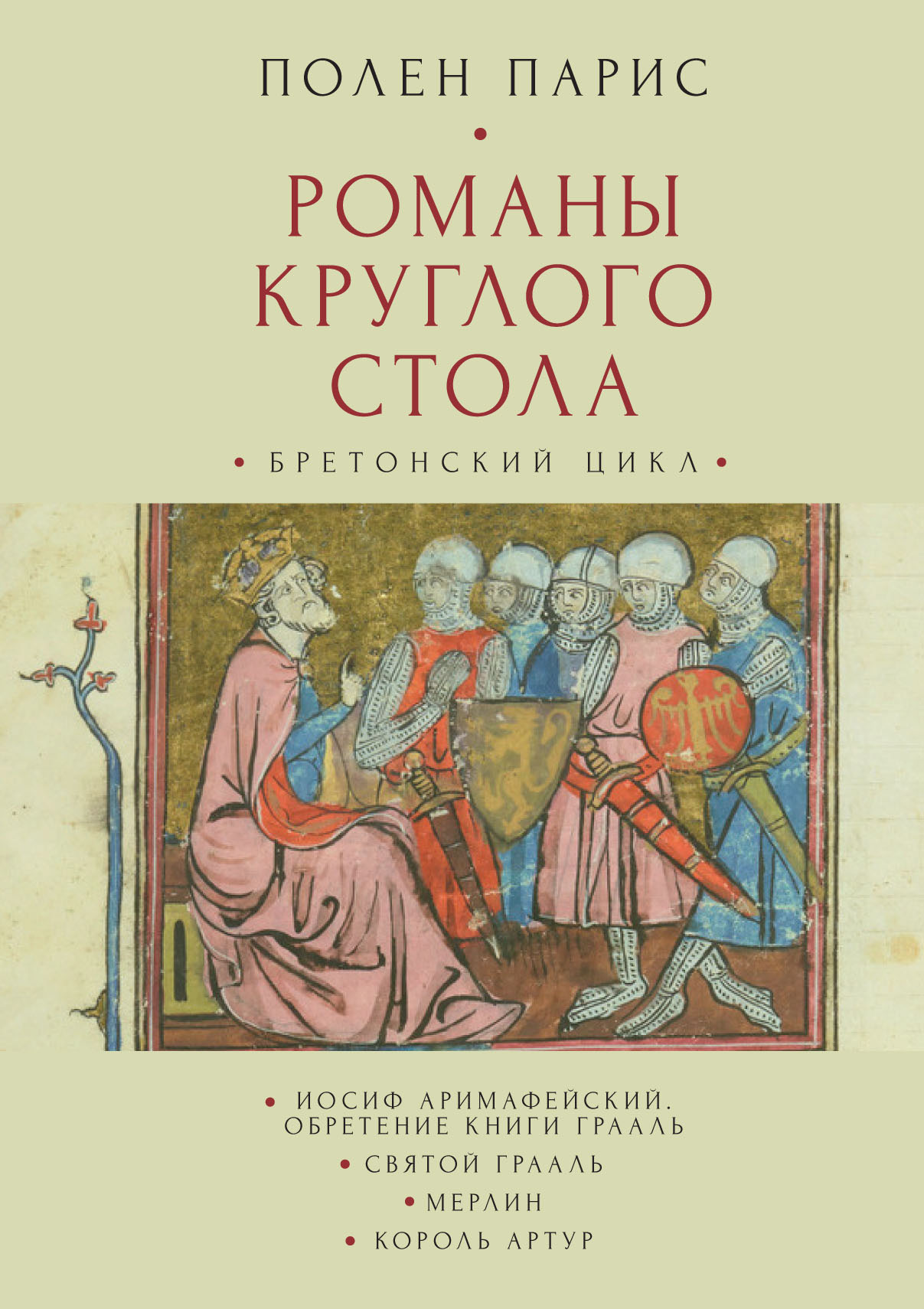Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Кое-что о памяти, упырях и умирающих деревнях.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Д. Блинов»: