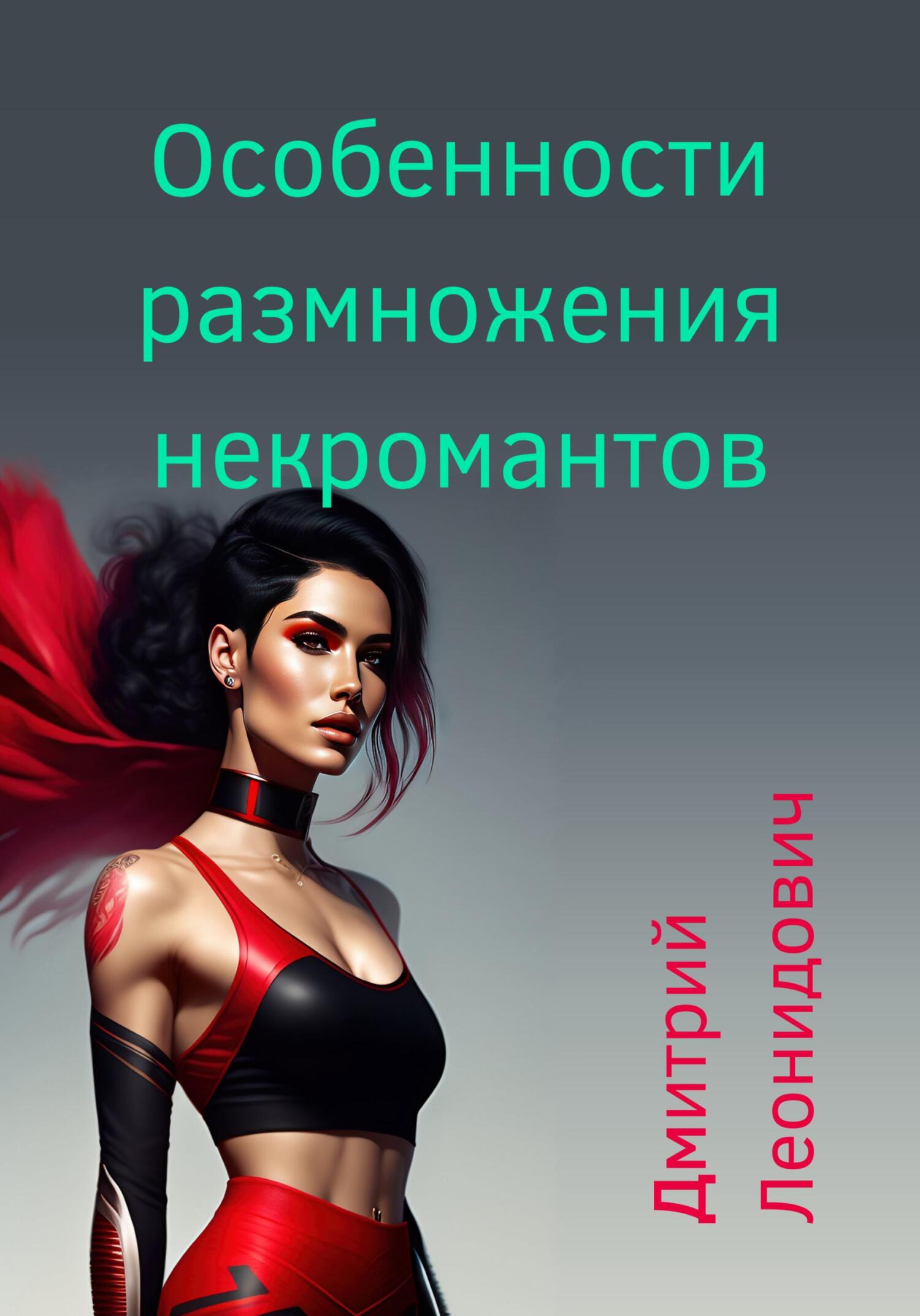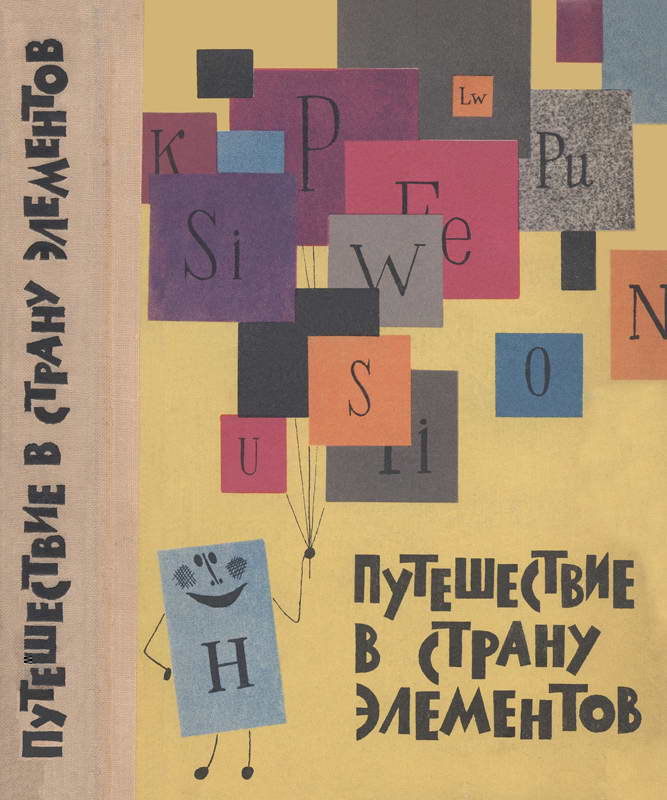Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В монографии исследуются пути, которые проходит драма от эпохи «второго рождения» в средневековой литургии и народном празднике до наиболее значимых моментов жанровых сдвигов, развилок, тупиков. Материалом монографии являются в основном жанры, тяготеющие к комическому регистру (комедия, фарс, трагикомедия). Среди главных тем: типология эпических и драматических жанров в европейской литературе классического периода, выстраиваемая на основе категории художественного времени, типология классической европейской комедии, выстраиваемая на основе универсального сюжетного схематизма, генезис литургической драмы, сюжетный инвариант французского средневекового фарса, жанровая специфика трагикомедии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Леонидович Андреев»: