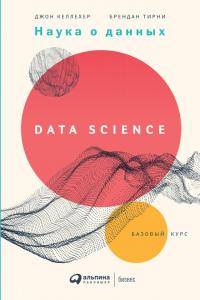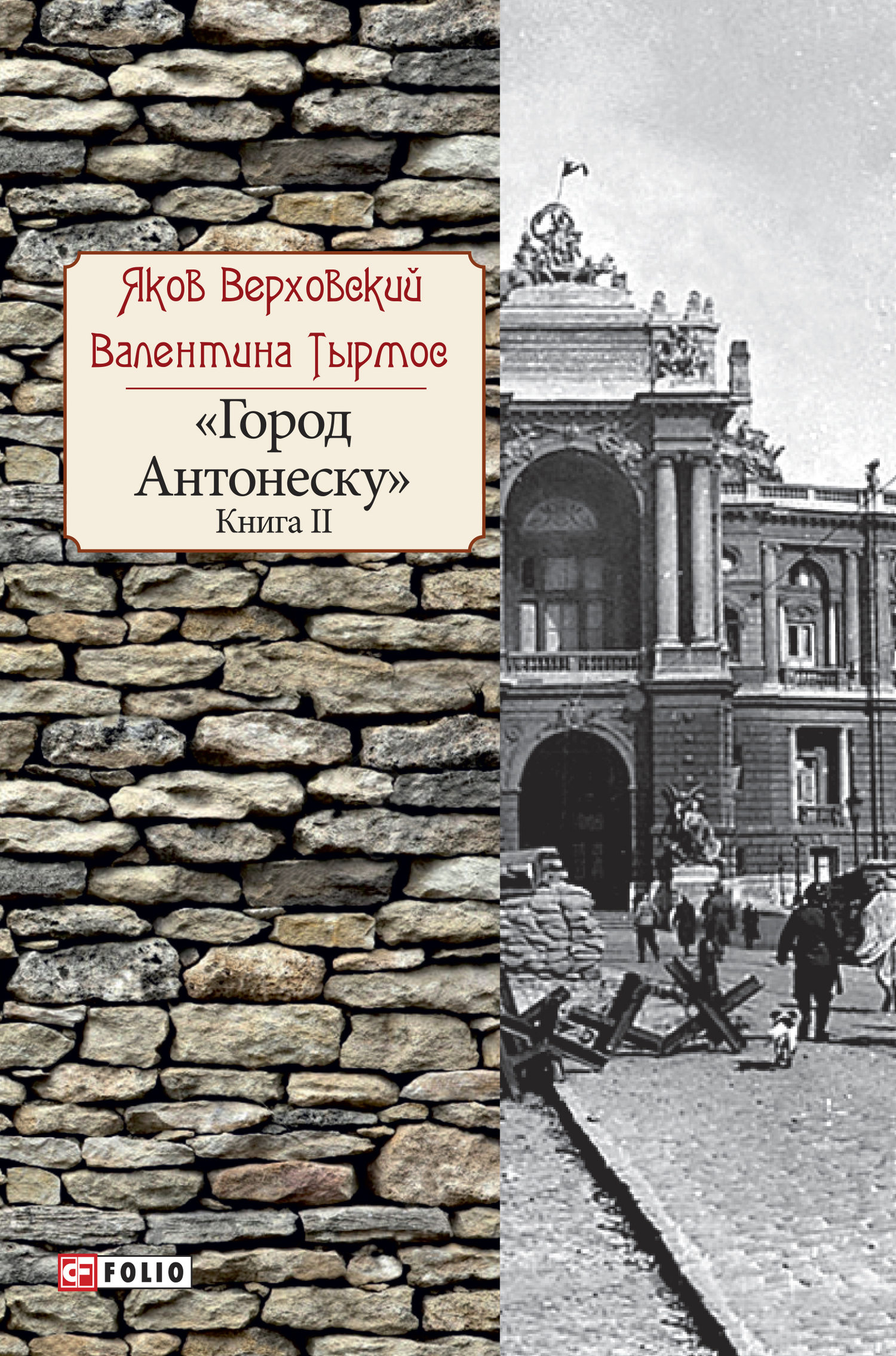Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Третья часть приключений попаданца в свое собственное восемнадцатилетнее тело. У него появились союзники, но проблем пока что меньше не становится — да ещё и сессия на носу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Черемис»: