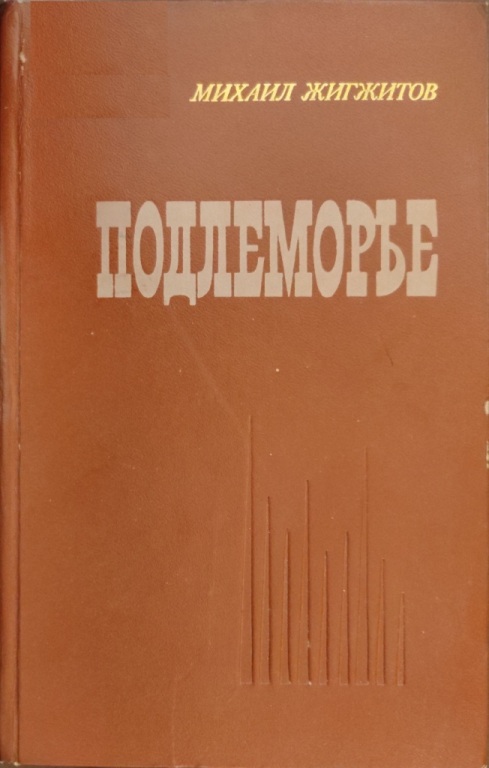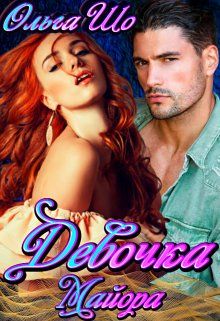Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В центре романа М. Жигжитова «Подлеморье» судьба бедняка — охотника Магдауля, в котором пробуждается революционное классовое самосознание: вместо недовольства и стихийного бунтарства вырабатывается вдумчивое, серьезное осмысление действительности и своего места в борьбе с прошлым укладом жизни. Читатель почувствует народную стихию, станет соучастником событий в романе, поплачет и посмеется.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Ильич Жигжитов»: