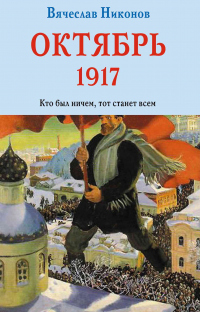Шрифт:
Закладка:
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Одна история», «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10 1/2 главах», «Попугай Флобера» и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий чуть ли не до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое.Что сильнее – любовь или ревность? И как вообще возможна ревность к прошлому, ко всем тем мужчинам, которых знала бывшая актриса Энн «до ее встречи со мной»? Такими вопросами одержимо терзается Грэм, преподаватель политической истории, и не находит себе места, превращая собственную жизнь в жестокий фарс…Роман публикуется в новом переводе.