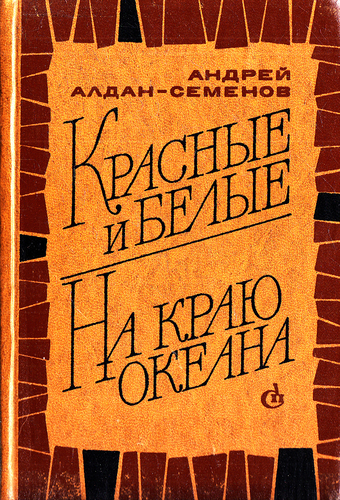Шрифт:
Закладка:
Нам порой приходится встречаться со своеобразным отношением людей к военным технологиям. Кто-то, возвращаясь домой после воинской службы, утверждает, что война — это технологические победы, когда слабое тело обретает власть над всем окружающим благодаря оружию. В этой книге через эволюцию бомбардировщиков — показана темная сторона психологической истории современного человека, его идей, изобретательности, теоретизирований, высокомерия, претенциозностей, а порой и чистого безумия. И их стоимость очень высока: разрушенные города и бесчисленные жертвы бомбардировок. Книга описывает пять эпох, от Первой мировой войны до наших дней. Всего в ней представлены 30 летательных аппаратов, определивших стратегию развития данного вида оружия. В основном здесь представлены большие машины, предназначенные для массированных бомбардировок, т. е. для уничтожения городов и гражданского населения.