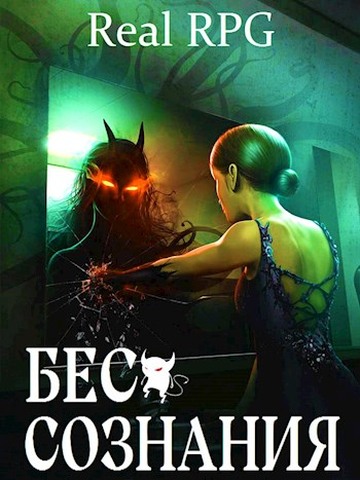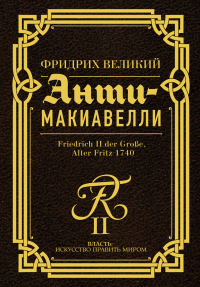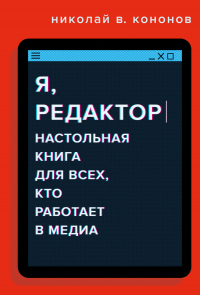Шрифт:
Закладка:
В кино мысль совпадает с движениями, а движения оказываются неотделимы от мысли, но не всегда безостановочно. Черпая сюжеты из литературы, кино оказывает обратное влияние на дальнейшую историю литературы и культуры в целом. Кинотекст в большей степени, чем обычный вербальный текст, вовлечен в процесс межкультурной коммуникации. Исходя из динамичной природы кино, автор последовательно раскрывает ключевые аспекты визуализации мыслительной деятельности в прошлом и специфику таковой деятельности на современном этапе. Исходя из положения, что текст культуры может быть выражен как на «естественном языке» своего происхождения, так и на языках различных других видов искусств, рассматривается ключевой для отечественного кинопроизводства крымский кинотекст как субтекст крымского текста русской культуры.Для культурологов и литературоведов, специалистов кинопроизводства, студентов и аспирантов творческих вузов, начитанных кинозрителей как таковых.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.