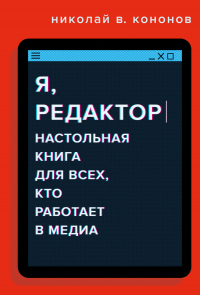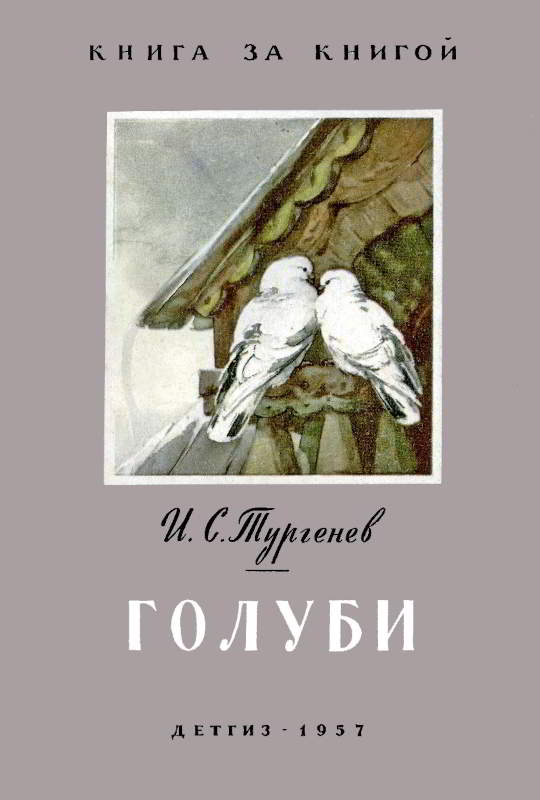Шрифт:
Закладка:
В настоящей книге на основании анализа биографии В. В. Розанова, его высказываний по религиозно-философским и общественно-политическим вопросам доказывается, что этот выдающейся мыслитель и беллетрист Серебряного века заявлял себя на литературной сцене в роли трикстера — эксцентричного, склонного к юродству разрушителя идейных устоев и традиционных представлений. В одно и то же время Розанов выступал врагом православной церкви и ее охранителем, христоборцем и глубоко верующим человеком, пансексуалистом и проповедником семейных ценностей, антисемитом и юдофилом… Как «философ жизни» он отстаивал примат Творения над всеми остальными категориями бытия, фетишизировал ценности «мира дольнего». С привлечением концепции «телесности» рассматриваются различные аспекты осмысления Розановым проблематике «свой — чужой», в том числе его отношение к еврейству.