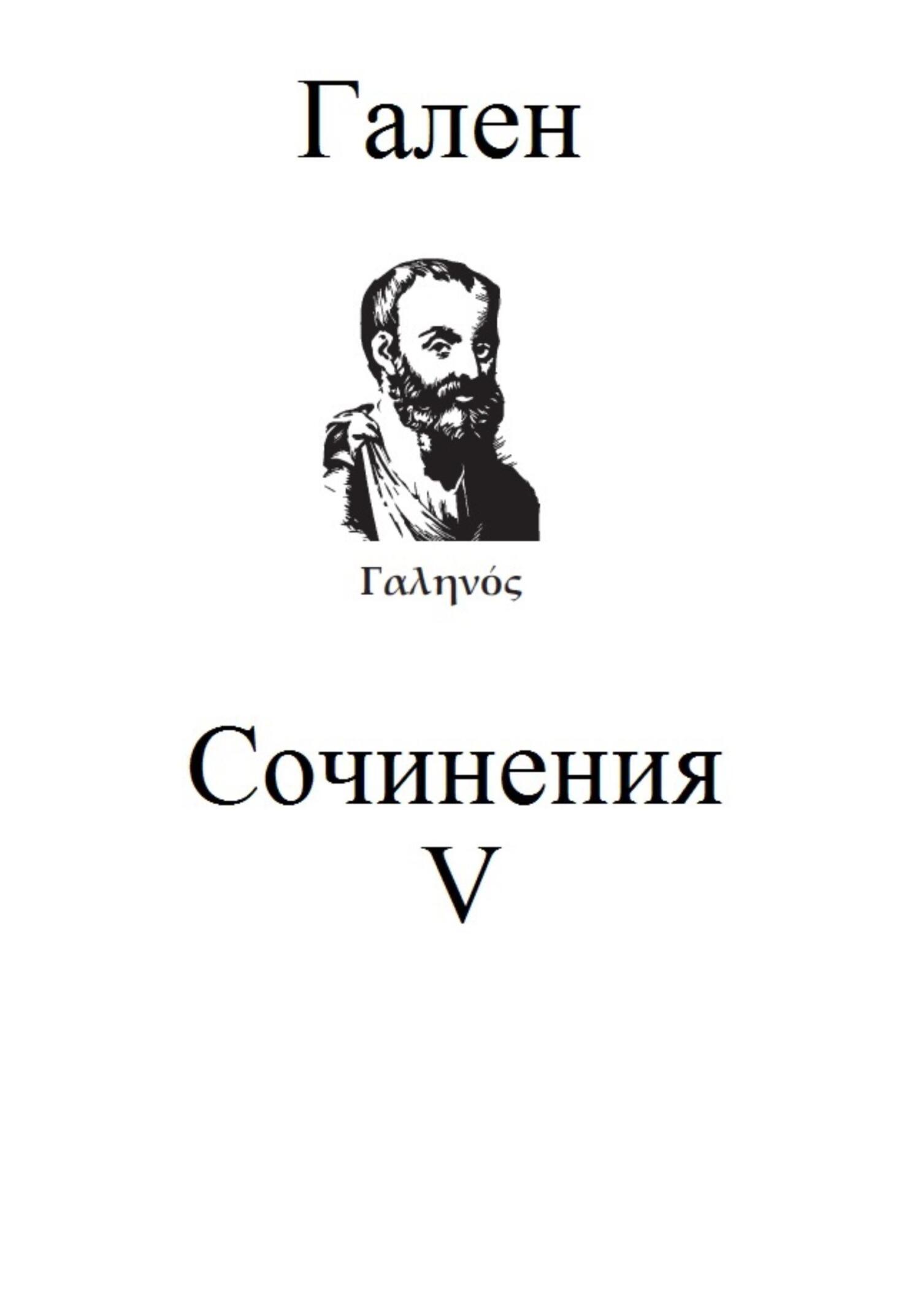Шрифт:
Закладка:
Роман Анатолия Эльснера – выдающегося писателя Серебряного Века – первое в русской словесности обращение к фигуре доктора-маньяка. Эльснер предвосхищает и впервые очерчивает сюжет, без которого невозможно представить литературу и кинематограф ХХ и ХХI века. К чему приводит сомнение врача в священном статусе клятвы Гиппократа и завета «Не навреди»? Медицинский гений доктора Кандинского требует опытов и экспериментов над пациентами, а его искусство убеждать делает из подопечных послушных рабов. Доктор Смерть втягивает в свои дьявольские игры все больше людей, но внезапное чувство к одной из женщин, о которой он должен заботиться, кажется, должно заставить его остановиться… Чем закончится кошмар, полный страданий и невинных жертв?