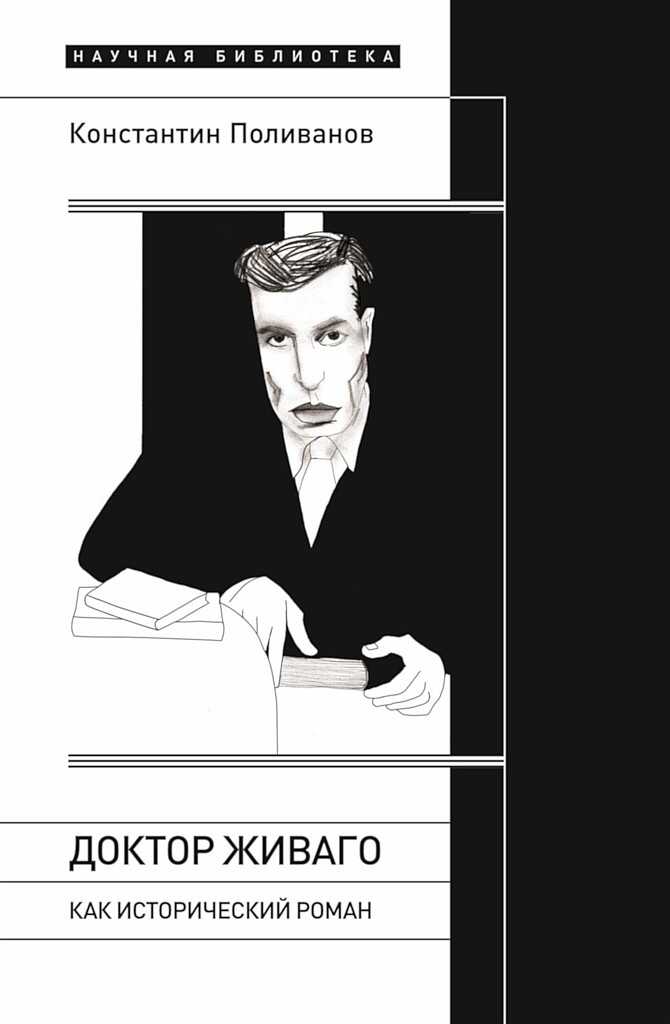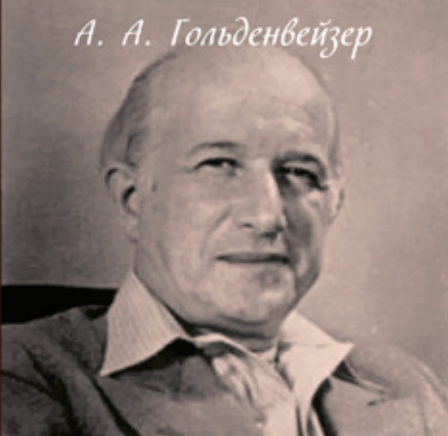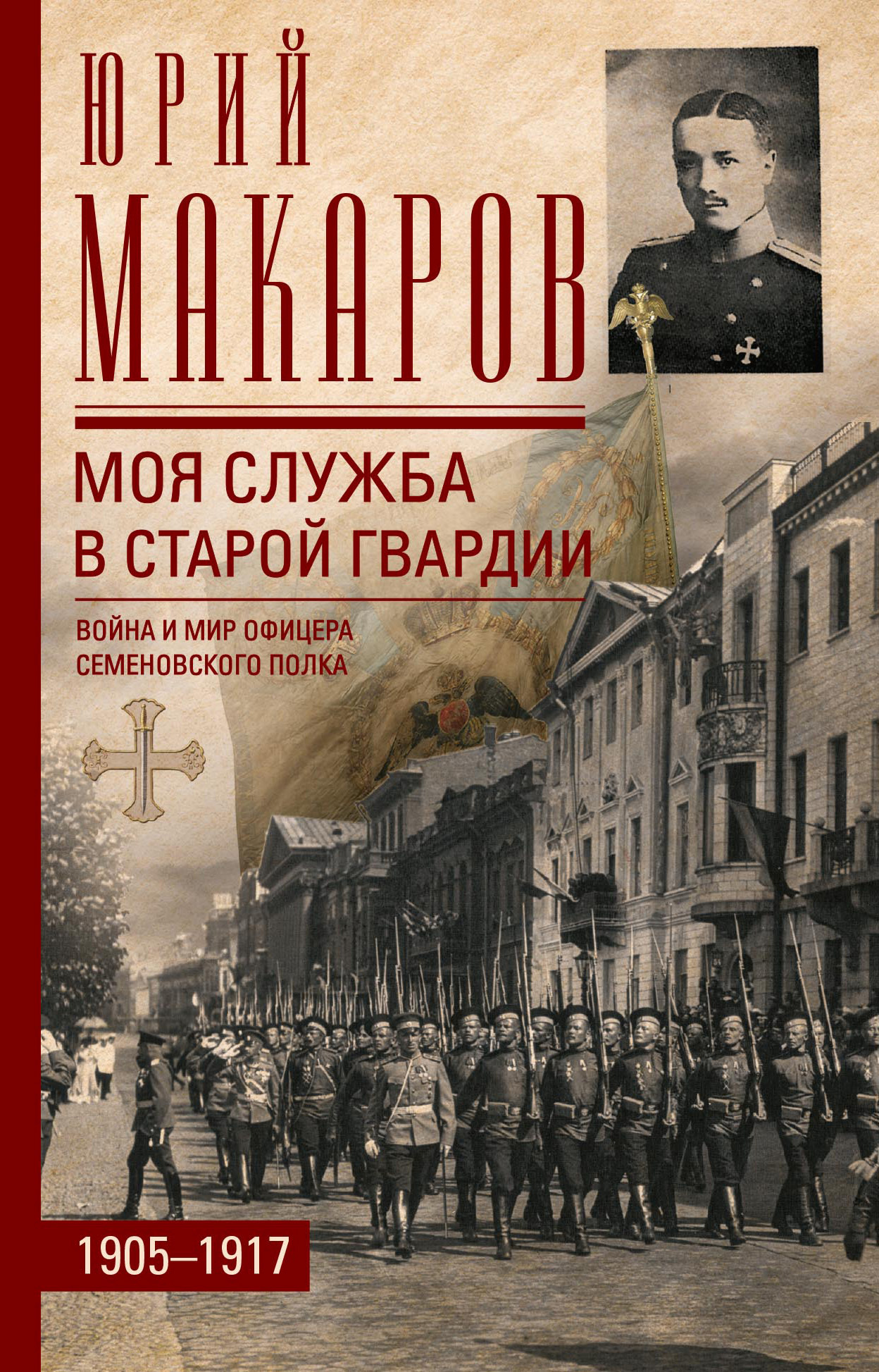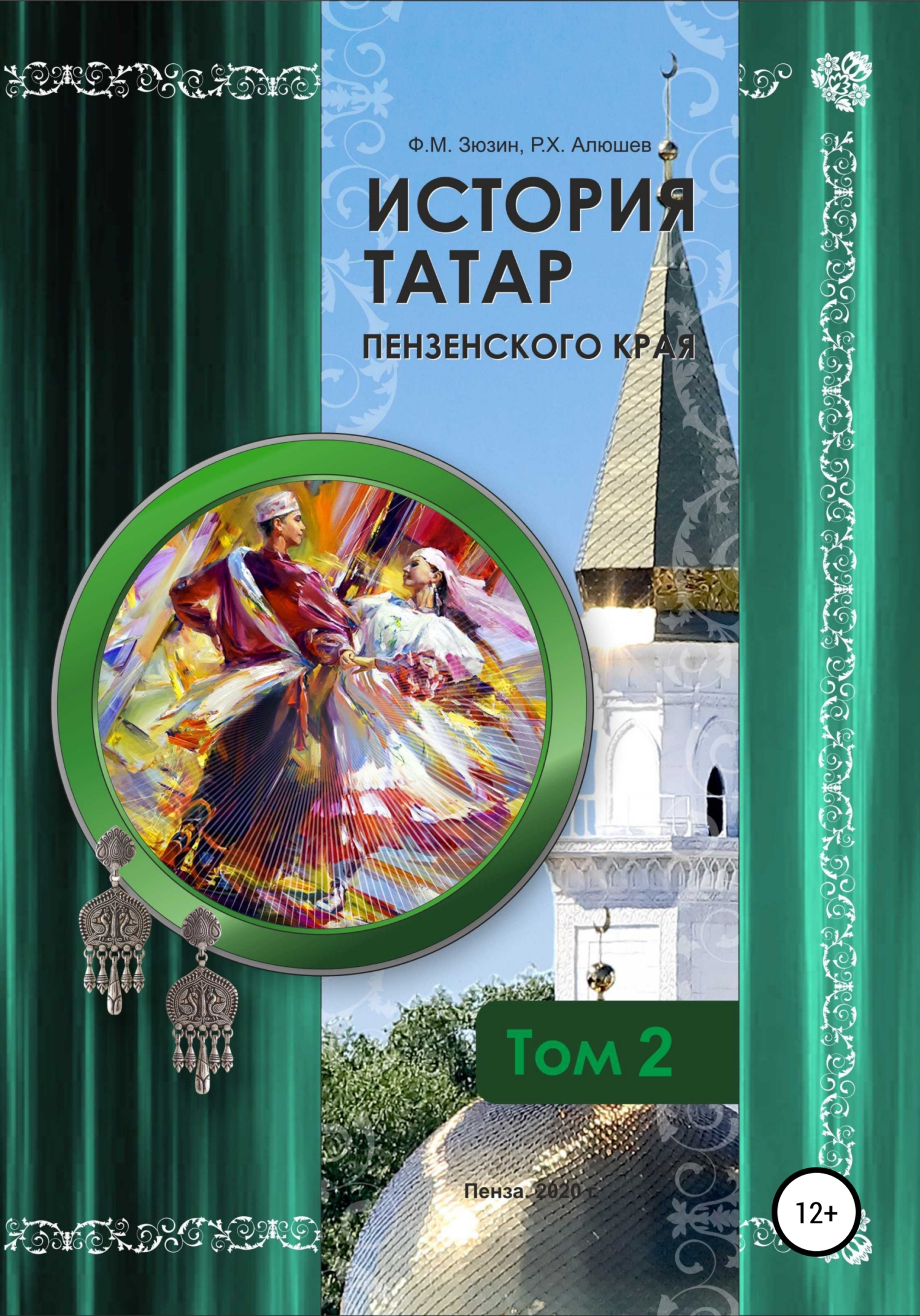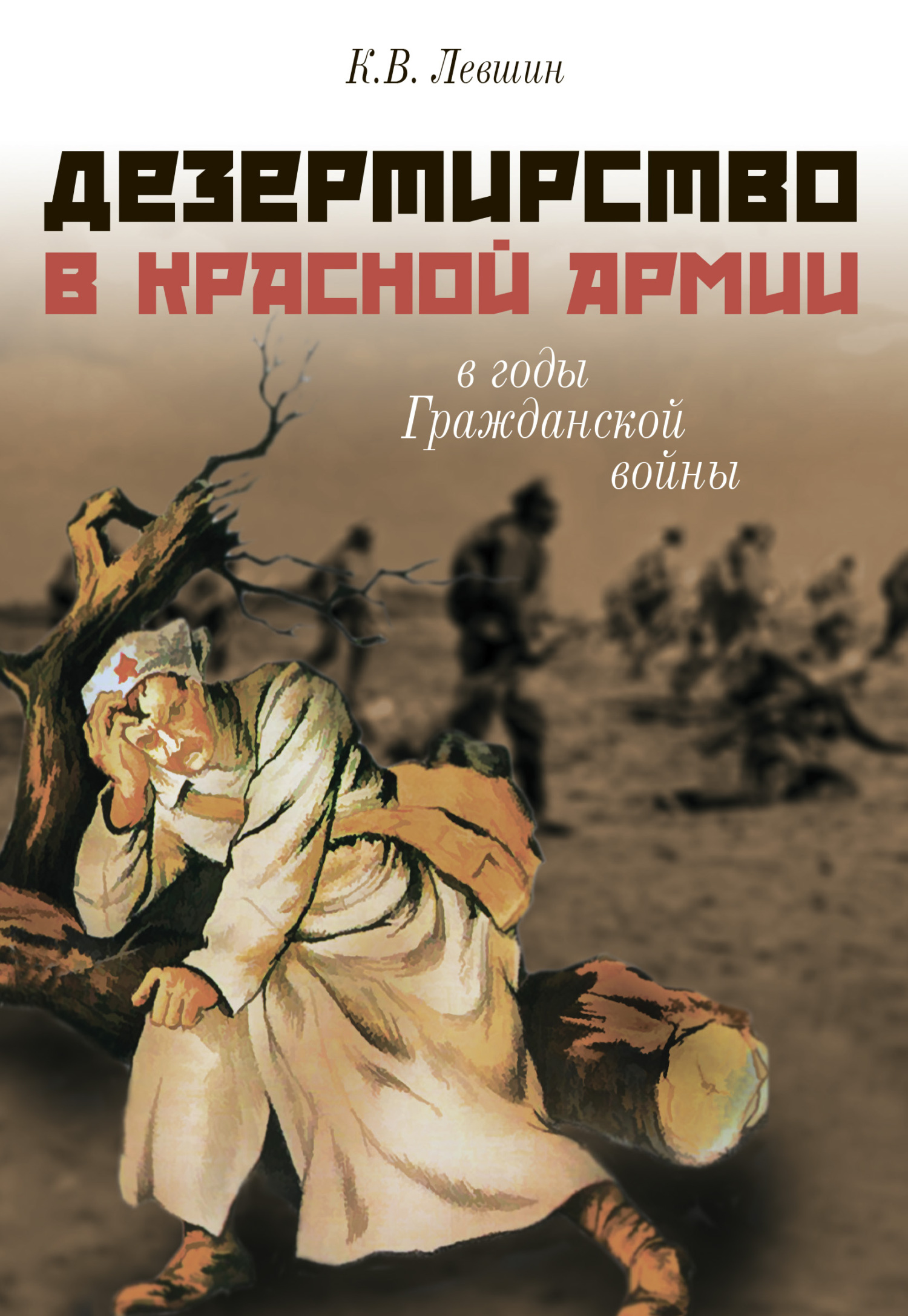Шрифт:
Закладка:
Приступая к работе над «Доктором Живаго», Борис Пастернак не раз подчеркивал, что хочет запечатлеть ход русской истории начала XX века. Какие опорные точки определяют картину эпохи в этом романе? Какими источниками пользовался Пастернак и кого можно назвать прототипами героев романа? На какие образцы жанровой традиции он опирался? Книга Константина Поливанова — это попытка реконструировать как историю замысла «Доктора Живаго», так и процесс становления историософских взглядов писателя. Автор демонстрирует работу Пастернака с историческим материалом, анализирует сложную игру со временем и поэтику анахронизмов в романе, маркирующих наступление «годов безвременщины» в послереволюционной России. К. Поливанов фокусирует свое внимание и на книге стихов Живаго, завершающих роман, которые, по мысли исследователя, преодолевают безвременье, восстанавливая историческое время. Как и роман, стоящий за этими стихами, они свидетельствуют о той «свободе», которая вопреки всему неминуемо придет в послевоенную Москву. Константин Поливанов — филолог, профессор НИУ ВШЭ, автор многочисленных работ о жизни и трудах Бориса Пастернака. Книга написана на основе диссертации, защищенной в Тартуском университете (2015).