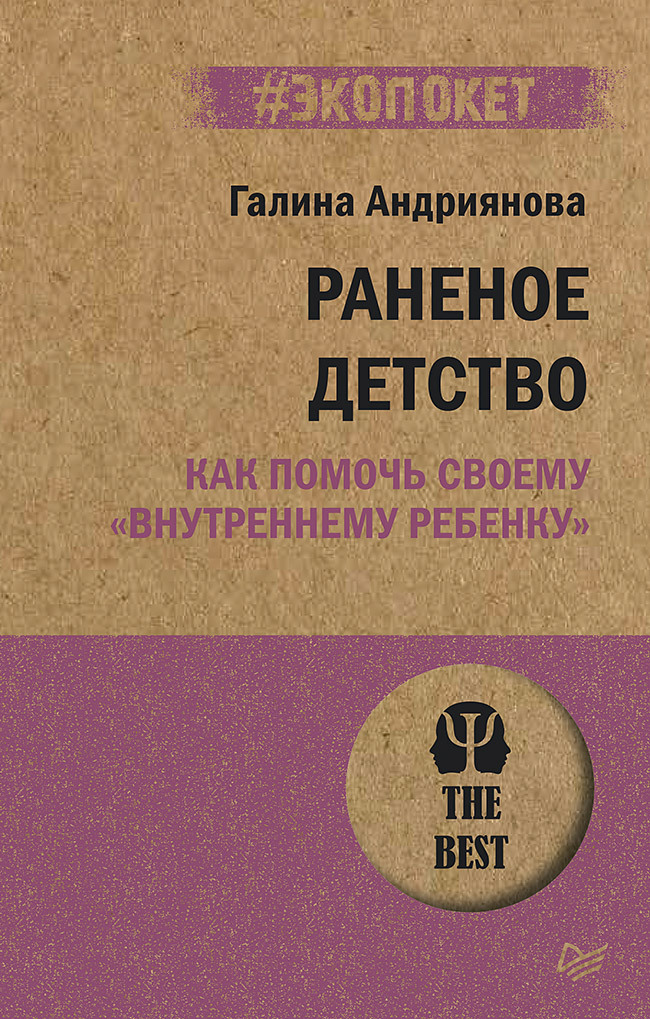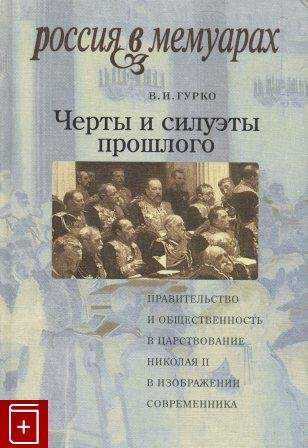Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Школа-интернат в удаленной от цивилизации лесной глуши живет по своим законам. Здесь нет имен и нет традиции помогать новичкам обустроиться. Здесь тех, у кого нет сил, помещают в казарму. Здесь один и тот же сон может бродить от ученика к ученику, пока не придет Холод – таинственный и зловещий хозяин территории, от прикосновения которого исчезаешь без следа. Кем ты станешь, оказавшись здесь? Сновидцем-предсказателем, героем или пропавшим, о котором быстро забудут? Захочешь ли разгадывать тайны этого места или предпочтешь закрыть на них глаза? Пришло время выбирать.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталия Ивановна Московских»: