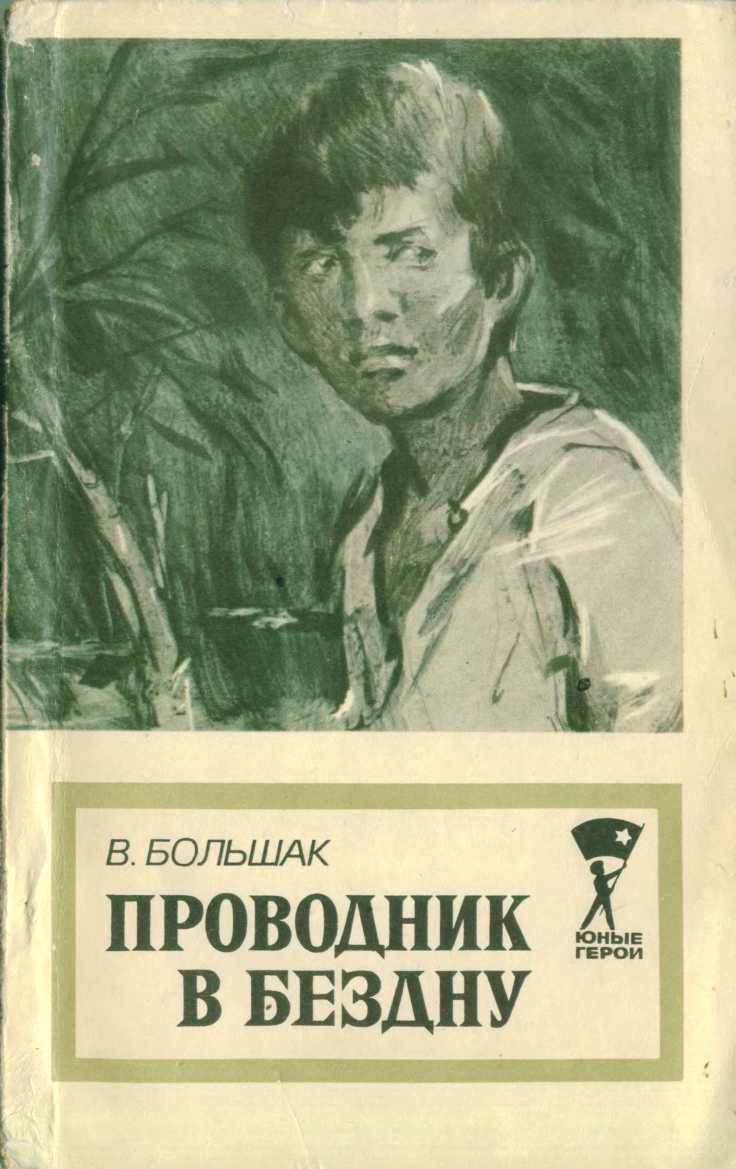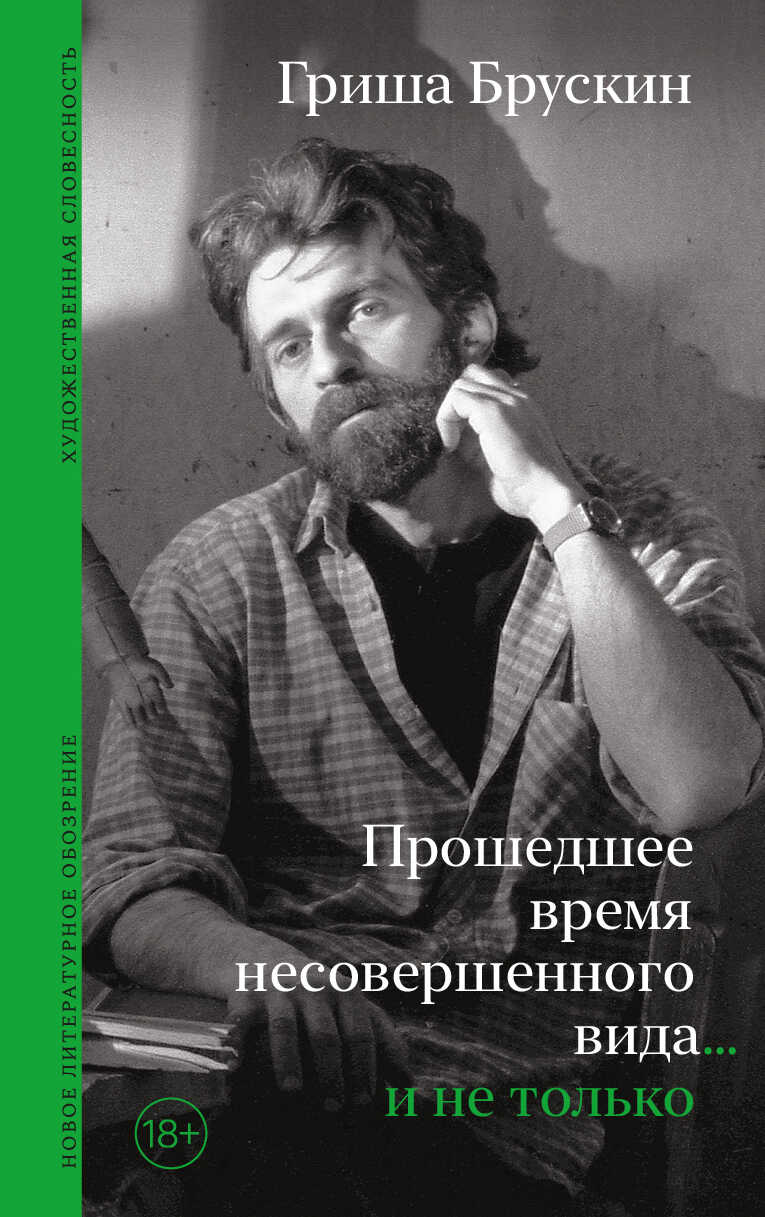Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Украинский писатель Василь Большак увлекательно рассказывает о подвиге пионера Гриши Мовчана, который завёл фашистов в непроходимую трясину. Раненый юный герой оказался в партизанском отряде — его спасли советские бойцы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Григорьевич Большак»: