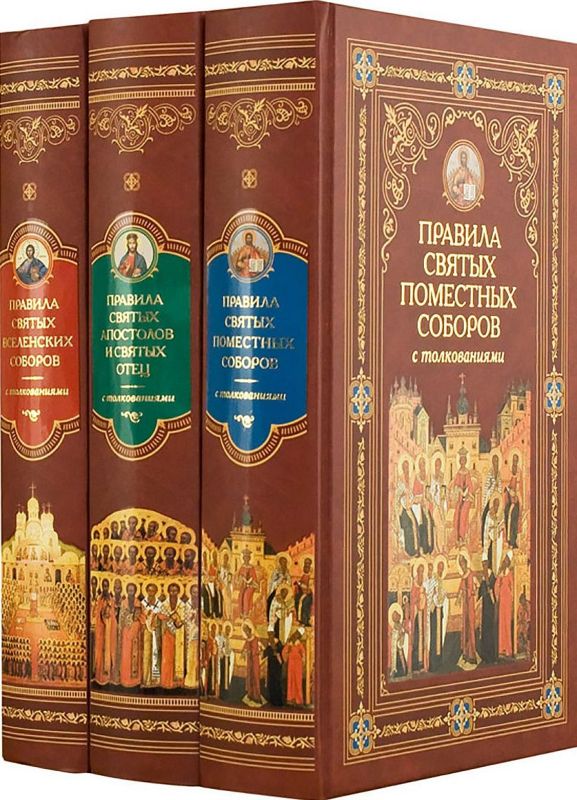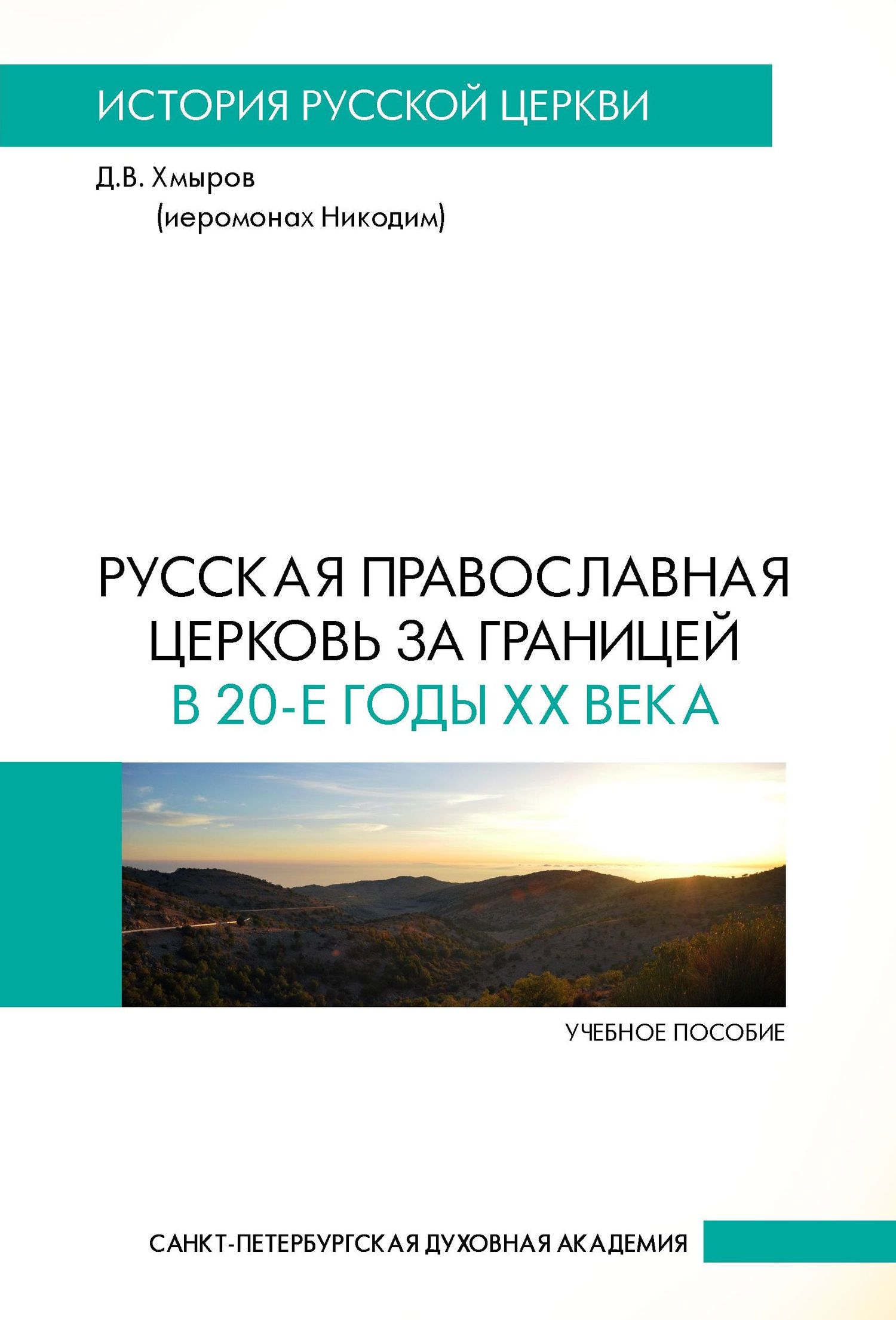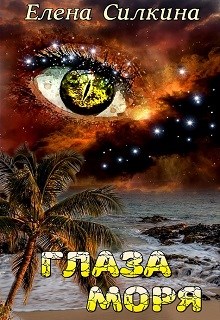Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Легендарному крестовому походу детей посвящены разнообразные произведения искусства. И книга современного писателя Николая Гаврилова в литературном пространстве занимает достойное место. Читателя увлекает живой стиль изложения, а также выстроенная последовательно, в хронике событий, структура произведения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Петрович Гаврилов»: