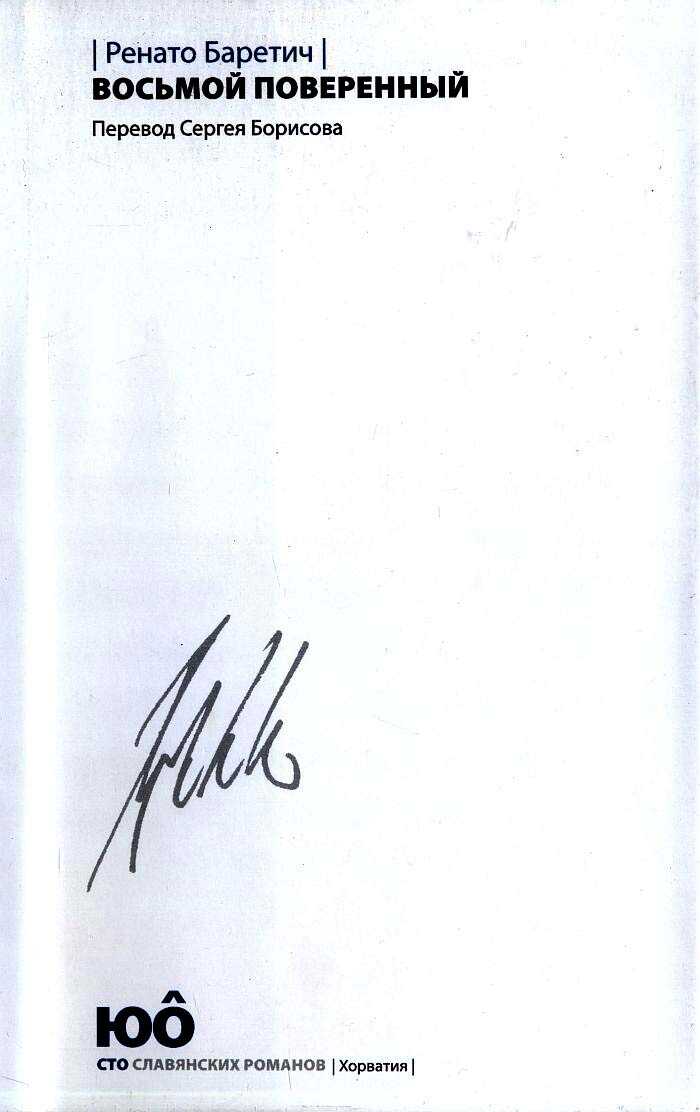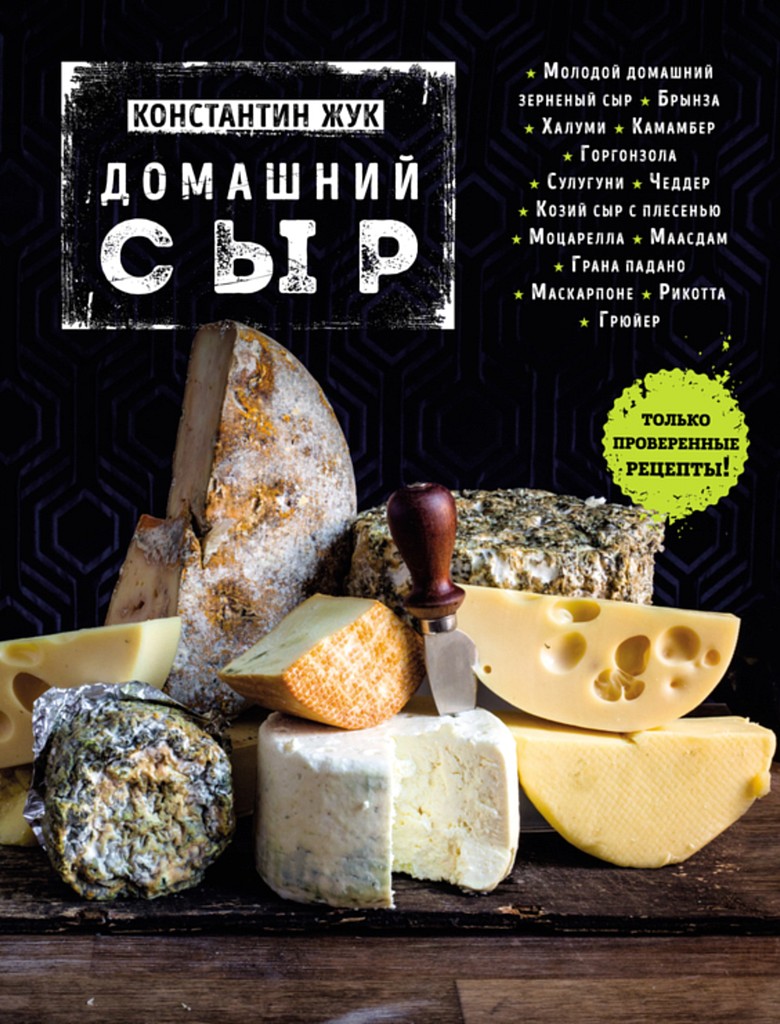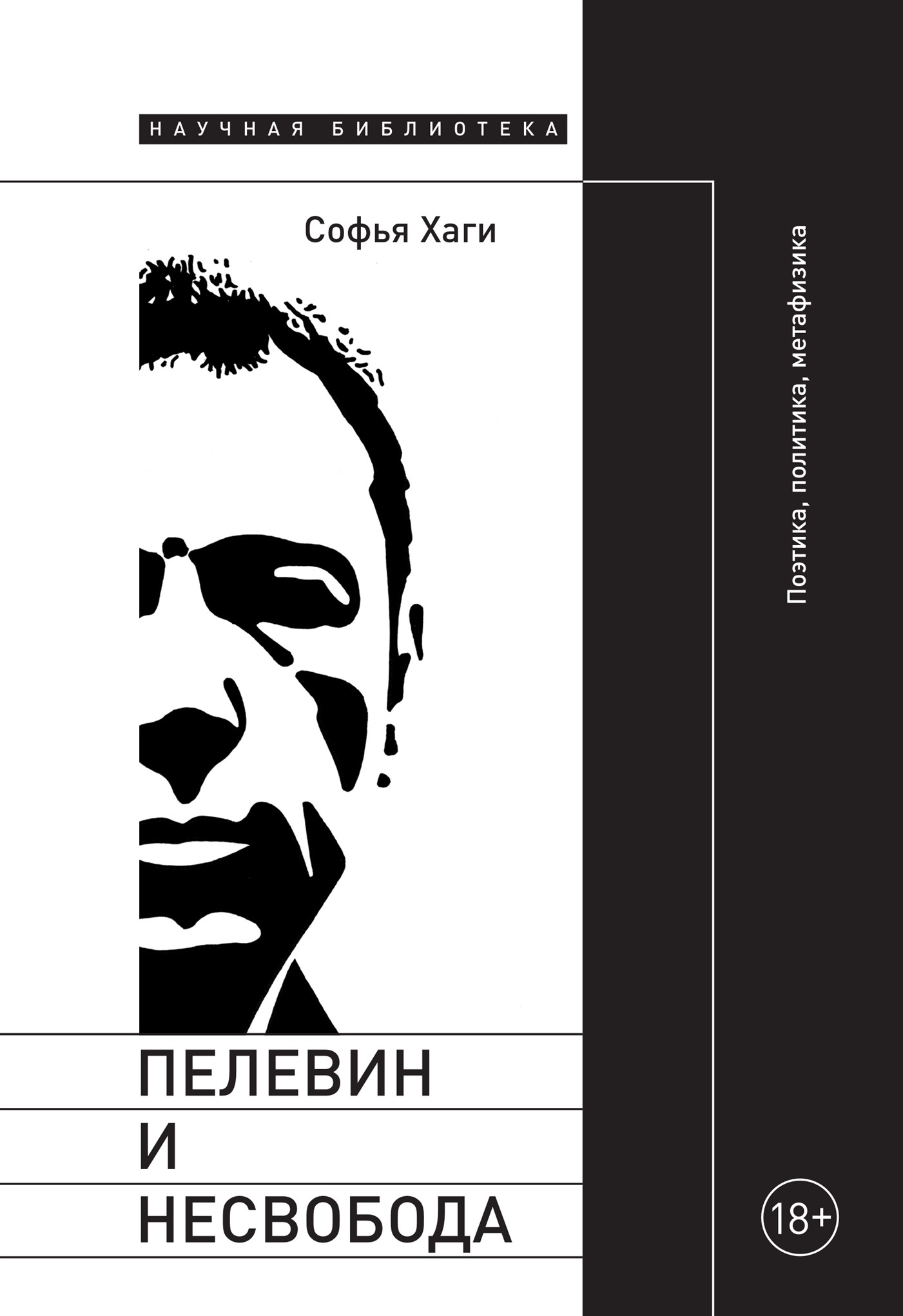Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Молодой политик вынужден «залечь на дно» и отправиться на самый удаленный остров. Здесь нет политических партий, мобильных телефонов и Интернета, зато в каждом доме солнечные батареи и новейшая итальянская сантехника. Будущее героя зависит от того, сможет ли он организовать на острове политические выборы, но с этой миссией он здесь далеко не первый, а остров продолжает жить своей особой таинственной жизнью.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ренато Баретич»: