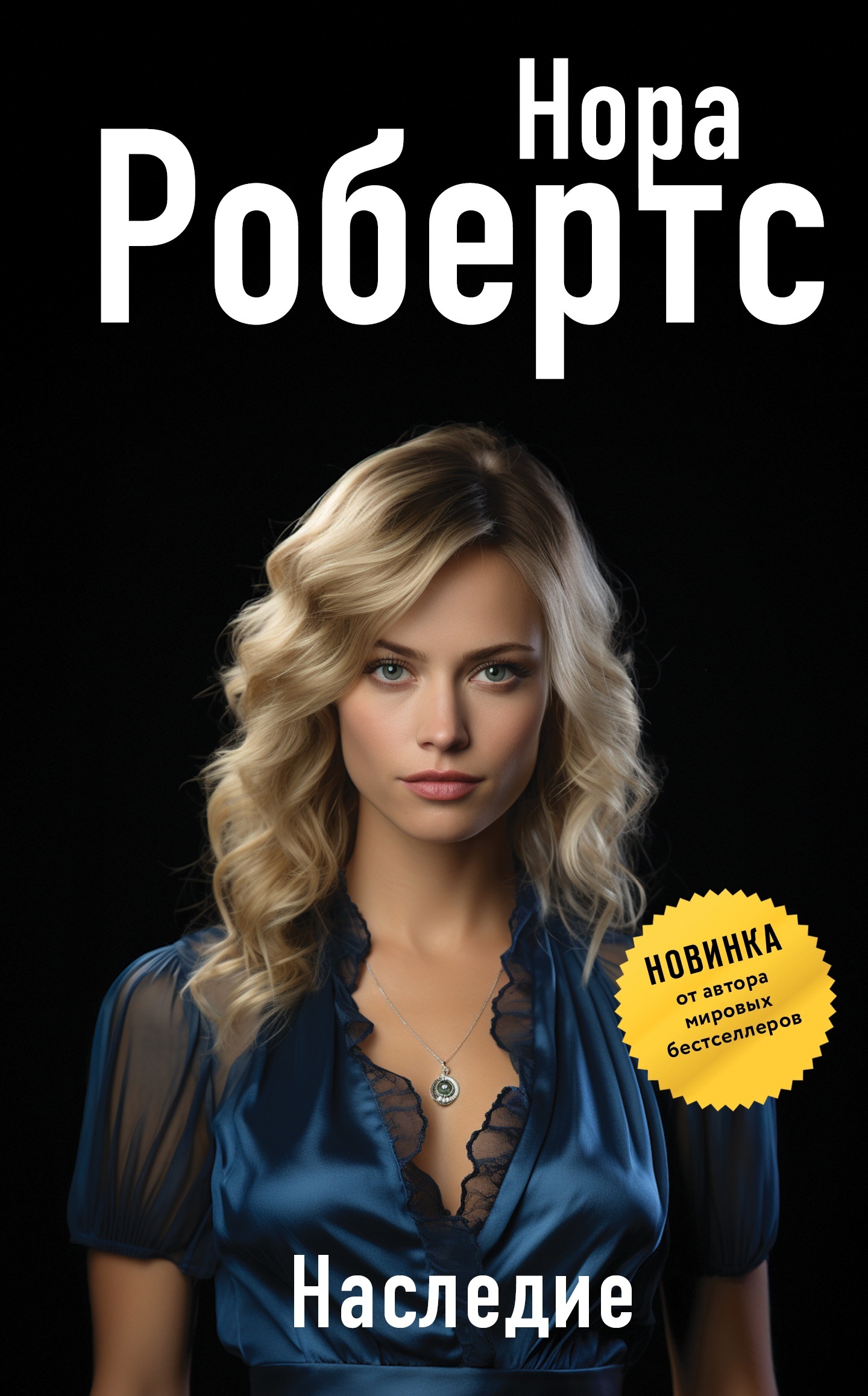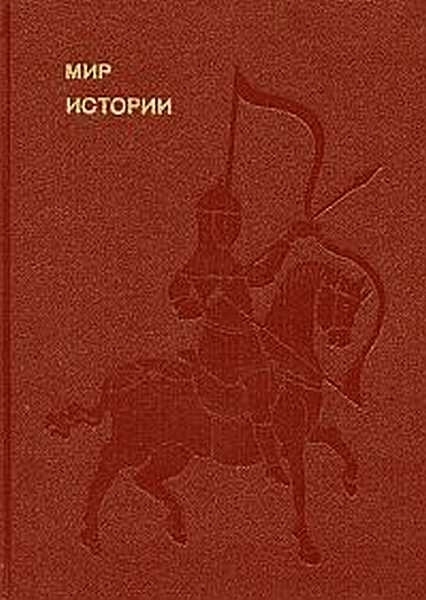Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875) очень любил путешествовать и написал несколько книг о своих поездках по разным странам. Книга «В Швеции» (1851) — это не только дорожные впечатления, это особый мир, наполненный сказаниями о былом и размышлениями о грядущем. Старинные города и их венценосные властители, грохочущие, похожие на троллей водопады и безмятежные озера, леса, где щебечут птицы, изысканные дворцы и скромные жилища — обо всем этом и о многом другом ведет доверительную беседу с читателем великий сказочник и странник. На русском языке книга публикуется впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ганс Христиан Андерсен»: